| Русская линия | Инна Симонова | 17.04.2007 |
От нас ушел Владимир Алексеевич Солоухин. С этой беспощадной реальностью трудно сжиться. Рана еще долго будет кровоточить.
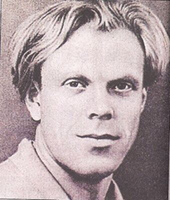 Так уж повелось на Руси, что писатель для нас — наша совесть. Мы можем вести «растительную» жизнь, грешить, суетиться в заботе о хлебе насущном. И при этом подспудно сознавать, что в это же самое время кто-то проделывает за нас, блуждающих впотьмах, духовную работу: соединяет «времен разорванную связь», возвращает нам по крупицам правду и память, сражается за восстановление порушенных национальных святынь и, как писал Александр Блок, «одним бытием своим… указывает, что есть какие-то твердые, гранитные устои».
Так уж повелось на Руси, что писатель для нас — наша совесть. Мы можем вести «растительную» жизнь, грешить, суетиться в заботе о хлебе насущном. И при этом подспудно сознавать, что в это же самое время кто-то проделывает за нас, блуждающих впотьмах, духовную работу: соединяет «времен разорванную связь», возвращает нам по крупицам правду и память, сражается за восстановление порушенных национальных святынь и, как писал Александр Блок, «одним бытием своим… указывает, что есть какие-то твердые, гранитные устои».
Пока Владимир Алексеевич жил среди нас, нам трудно было оценить это в должной мере. С его смертью образовалась зияющая, невосполнимая пустота. И чем дальше, тем сильнее это будет ощущаться…
Судьба даровала мне знакомство с Владимиром Алексеевичем в 1990-ом году. Он предложил мне, в то время редактору исторической редакции издательства «Молодая гвардия», только что законченную им документальную повесть о представителях славного в истории России рода князей Волынских: Дмитрии Михайловиче Боброк-Волынце — воеводе Дмитрия Донского, герое Куликовской битвы, и Артемии Петровиче Волынском — сподвижнике Петра I и кабинет-министре императрицы Анны Иоанновны. Последняя треть книги была построена на мемуарах Артемия Михайловича Волынского, лицеиста 70-го выпуска, умершего глубоким старцем в Нью-Йорке, в 1988 году. Его дед был придворным врачом у императора Александра II, а отец воевал под командованием генерала Скобелева за освобождение Болгарии.
Сын мемуариста Артемий Артемьевич Жуковский-Волынский, родившийся в Китае, миллионер, попечитель Браунского университета в Провиденсе (штат Род-Айленд), хотел, чтобы его дети и внуки, стопроцентные американцы, не говорящие по-русски, знали бы о своих корнях и гордились ими. Он обратился к своим хорошим знакомым: инженеру и издателю Олегу Михайловичу Родзянко, внуку председателя Государственной Думы третьего и четвертого созывов, и его жене, филологу, Татьяне Алексеевне, урожденной Лопухиной, с просьбой порекомендовать современного русского писателя, «с именем», который бы на основе неопубликованных воспоминаний отца воссоздал бы семейную хронику князей Жуковских-Волынских. Супруги Родзянко, не сговариваясь, тут же предложили кандидатуру Владимира Солоухина, произведениями которого зачитывались. Так началась история создания книги «Древо», редактором которой довелось быть мне.
 Затем последовал очерк для составлявшегося мною сборника «Встречи с историей» — о Борисе Коверде, юноше-белоэмигранте, смертельно ранившем в июне 1927 года в Варшаве полпреда СССР в Польше Петра Войкова. Почти за десять лет до этого Войков, будучи комиссаром снабжения Уральского Совета в Екатеринбурге, участвовал в убийстве Николая II и его семьи. Солоухин был знаком с дочерью Коверды и считал ее отца героем, совершившим акт заслуженного возмездия. Он не раз говорил, что мечтает о том времени, когда станцию метро «Войковская», недалеко от которой я в то время жила, переименуют в «Ковердинскую"…
Затем последовал очерк для составлявшегося мною сборника «Встречи с историей» — о Борисе Коверде, юноше-белоэмигранте, смертельно ранившем в июне 1927 года в Варшаве полпреда СССР в Польше Петра Войкова. Почти за десять лет до этого Войков, будучи комиссаром снабжения Уральского Совета в Екатеринбурге, участвовал в убийстве Николая II и его семьи. Солоухин был знаком с дочерью Коверды и считал ее отца героем, совершившим акт заслуженного возмездия. Он не раз говорил, что мечтает о том времени, когда станцию метро «Войковская», недалеко от которой я в то время жила, переименуют в «Ковердинскую"…
Владимир Алексеевич был на редкость дружелюбным и отнюдь не чванливым автором, с которым легко работалось. Он покорно сносил все замечания из разряда «пойманных блох», типа: «начнем ab ovo, как говорили древние греки» (хотя это латинское выражение), — или: «на Александра II было совершено три покушения» (когда достоверно известно, что семь). Такого рода «ляпов» было немного, но Солоухин всякий раз смущался, приговаривая: «Ваша воля, Инна Анатольевна…»
Вообще доброжелательность была одной из отличительных черт его характера. Он был абсолютно не завистлив, щедр к тем, кому симпатизировал.
Я тих и добр. Люблю с друзьями
Попить, поесть. Наедине
Люблю остаться со стихами,
Что пробуждаются во мне.
Он считал себя прежде всего поэтом. Просил, чтобы представляли его не иначе как «поэт и прозаик», причем «поэт» — на первом месте.
Писал с утра, ежедневно, положив за правило: две страницы в день, ни больше — ни меньше. Но говорил, что если чувствовал приближение рождения стиха, тут же откладывал в сторону все, над чем в тот момент работал: очерк, повесть, роман. «Прозу я писал сам, а стихи — мне всегда казалось, под чью-то диктовку», — признавался он. Так появились замечательные стихотворения «Ястреб», «Стрела», «Давным-давно», «Она еще о химии своей…», «Лозунги Жанны д’Арк», «Идут кровопролитные бои», «Друзьям», «Настала очередь моя"… Владимир Высоцкий как-то поведал, что свою знаменитую «Охоту на волков» он написал под впечатлением солоухинских «Волков»:
Мы — волки,
И нас
По сравненью с собаками
Мало.
Под грохот двустволки
Год от году нас убывало.
Мы, как на расстреле,
На землю ложились без стона.
Но мы уцелели,
Хотя и живем вне закона.
Он был из породы волков. Никогда и никому не позволял нацепить на себя ошейник. Всему его творчеству был свойственен обличительный пафос, бескомпромиссность, страстность в отстаивании ценностей истинных и вечных.
«Человек бесстрашной искренности» — эти слова Горького об одном из наиболее высоко ценимых Солоухиным поэтов Александре Блоке с полным правом можно отнести и к нему самому. Он был честным и мужественным писателем. Его проза, тяготевшая к лиризму, поэтичности, росшая как бы из стиха, — предельно автобиографична, дневникова, в ней немало откровенных, обнаженно-исповедальных страниц. В этом Владимир Алексеевич следовал завету Достоевского: «Никогда не выдумывайте ни фабулы, ни интриги. Берите то, что дает сама жизнь. Жизнь куда богаче всех наших выдумок! Никакое воображение не придумает вам того, что дает самая обыкновенная, заурядная жизнь!»
…Он стремительно вошел в литературу в конце 50-х с повестями «Владимирские проселки» и «Капля росы», утверждавшими конкретные понятия любви к тому, что Пушкин называл «милым пределом», а мы, чаще, — «малой родиной». Эти произведения положили начало целому литературному направлению — так называемой «деревенской прозе». Затем последовали «Письма из Русского музея», «Черные доски», «Время собирать камни», ставшие вехами в становлении нашего самосознания. В них писатель размышлял о судьбах родной культуры и — в противовес некоему «общечеловеческому», безнациональному, абстрактному искусству — стремился привлечь внимание к неповторимым по своей самобытности реликвиям русской «седой старины»: храмам и усадьбам, иконам и картинам, книгам и крестьянской утвари. Борьба за спасение культурных и архитектурных памятников, находившихся под угрозой разрушения и полного исчезновения, была делом его жизни.
Он умел и любил спорить, отстаивая свою правоту, свою точку зрения. Он первым в подцензурной советской печати назвал большевистскую революцию «октябрьским переворотом». Не будучи ни диссидентом, ни невозвращенцем-эмигрантом, он задолго до так называемой «перестройки» бесстрашно развенчивал культ Ленина, с фактами в руках обличал лживость партийных официозов, воссоздавал потайные, мрачные, залитые кровью страницы недавней истории страны. У многих его произведений была непростая судьба. Так, написанные в середине 70-х годов книги «Cмех за левым плечом» и «Последняя ступень» увидели свет только в конце 80-х и середине 90-х.
Владимир Солоухин был поистине трагической личностью. Настоящий художник и интеллигент всегда обречен пребывать в оппозиции к власть предержащим — это аксиома. В этом смысле он повторил судьбу Блока. Александр Александрович до революции любил бывать в рабочих окраинах, воспевал «барки» и «фабрики», призывая: «Пусть заменят нас новые люди!..» А с приходом большевиков его все чаще стали замечать на Дворцовой набережной, у сфинксов, Эрмитажа…
 Владимир Алексеевич, выросший и сформировавшийся в условиях социалистической системы, в послевоенные годы ощутивший вместе со всей страной радостное всемогущество родины, в полной мере прочувствовавший, что значит в России популярность писателя — «властителя дум» и сопряженный с этим особый стиль жизни, — в последние пять лет практически лишился всех своих сбережений, но главное — ему довелось стать свидетелем развала многонациональной, 250-миллионной державы, сплочению которой он служил десятилетиями — в том числе как переводчик и популяризатор «братских советских литератур».
Владимир Алексеевич, выросший и сформировавшийся в условиях социалистической системы, в послевоенные годы ощутивший вместе со всей страной радостное всемогущество родины, в полной мере прочувствовавший, что значит в России популярность писателя — «властителя дум» и сопряженный с этим особый стиль жизни, — в последние пять лет практически лишился всех своих сбережений, но главное — ему довелось стать свидетелем развала многонациональной, 250-миллионной державы, сплочению которой он служил десятилетиями — в том числе как переводчик и популяризатор «братских советских литератур».
Как-то раз, размышляя вслух, он задался вопросом, удалось бы ему состояться как писателю, приди он в литературу сегодня, когда в чести не поэты, а банкиры. И, помолчав, убежденно сказал, что все равно бы стал литератором, так как видит только в этом свое призвание и предназначение на земле.
Когда в разгар очередной из предвыборных баталий я поинтересовалась, почему он, с его неравнодушием, отчетливой гражданской позицией и, в конце концов, известностью, не хочет заняться политикой и баллотироваться в депутаты, как это делают сегодня многие его коллеги по цеху, Владимир Алексеевич ответил, что лишен пустого честолюбия и уверен: больше пользы народу и государству он принесет, сидя в уединении за письменным столом в Переделкино.
Вообще он был в последние годы очень одинок. Говорил, что у него нет стимула и интереса жить. Почти все друзья, с кем он был по-настоящему счастлив — Александр Яшин, Федор Абрамов, Василий Федоров, — ушли в мир иной.
«Для того, чтобы свыкнуться со смертью, нужно приблизиться к ней вплотную», — писал Монтень. И именно этот процесс стремительно происходил с ним. Он словно пережил свое время, и умирал, подобно Блоку, «от тоски"…
Он позвонил мне по телефону в начале января, едва я переступила порог дома после долгого пребывания в чужих краях. И сразу заговорил о том, что смертельно болен. Врачи рекомендовали сделать операцию, которая повлечет за собой инвалидность, но едва ли продлит жизнь на два-три года. Без оперативного вмешательства ему был обещан от силы год-полтора. Гордый человек, он был подавлен, растерян, явно нуждался в поддержке, сочувствии. А я, как назло, не находила нужных слов. Что-то пробормотала о том, что нужно не уступать болезни, — ведь многое в нас самих зависит от состояния духа, желания жить…
Он стал расспрашивать о Берлине, Бонне, Висбадене, но особенно подробно — о Париже. Сказал, что больше всего на свете хотел бы снова там оказаться. Узнав, что я посетила русское кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа и сфотографировала на память могилы Бунина, Коровина, Лифаря, Рябушинских, памятник белым армиям генералов Врангеля и Корнилова, воссозданный в виде точной копии того, что стоял когда-то в Галиполи, предложил включить их в свою недавно завершенную книгу «Чаша», посвященную судьбам русской эмиграции.
Последняя наша встреча была в Крещенье, в доме общих друзей. За два часа до этого Владимир Алексеевич успел побывать на балу в Дворянском собрании. («Говорят, нельзя в одной руке удержать два арбуза, — а у меня получилось!», — немного вымученно пошутил он). Отмахиваясь от доводов, что производство в высшее сословие может быть даровано лишь Царем, Божьим Помазанником, он, крестьянский сын, по-детски обезоруживающе радовался полученному накануне от Великой Княгини Леониды Георгиевны титулу потомственного дворянина.
 Последние тридцать лет Владимир Алексеевич был убежденным монархистом. Он считал, что восстановление в России Царской власти — единственный путь ее спасения. Недаром в самом начале 90-х годов он передал нам в издательство для публикации привезенную из поездки в Аргентину книгу Ивана Солоневича «Народная монархия». «Монархию надо заслужить, — любил повторять Солоухин. — Пока же в России население, а не народ, сплоченный единством общих убеждений и устремлений, окончательный распад и гибель нашей страны — лишь дело времени, к вящей радости ее недругов"…
Последние тридцать лет Владимир Алексеевич был убежденным монархистом. Он считал, что восстановление в России Царской власти — единственный путь ее спасения. Недаром в самом начале 90-х годов он передал нам в издательство для публикации привезенную из поездки в Аргентину книгу Ивана Солоневича «Народная монархия». «Монархию надо заслужить, — любил повторять Солоухин. — Пока же в России население, а не народ, сплоченный единством общих убеждений и устремлений, окончательный распад и гибель нашей страны — лишь дело времени, к вящей радости ее недругов"…
Он старался держаться до последнего. Неизменными оставались стать, осанка. Болезнь выдавали только глаза, погасшие и смотревшие уже откуда-то из инобытия.
Было еще несколько телефонных звонков от Владимира Алексеевича. Помню, он вновь и вновь просил перечитать небольшую заметку, опубликованную в газете «Аргументы и факты», о возможности возвращения в Россию праха великой балерины Анны Павловой; вот уже шесть с половиной десятилетий он хранится в старейшем лондонском крематории Голдерс Грин, несмотря на высказанное легендарной артисткой на смертном одре пожелание вернуться, хотя бы посмертно, на родину, «когда в России не станет коммунизма». Видимо, Владимир Алексеевич собирался подать свой голос в поддержку официального запроса к английским властям по этому поводу. Ведь именно ему принадлежала заслуга перезахоронения в 1984 году на Новодевичьем кладбище привезенного из Парижа праха Федора Ивановича Шаляпина.
Друзья время от времени сообщали, что видели Солоухина то на праздновании 120-летия газеты «Московский железнодорожник», то на персональной выставке в Славянском центре фотохудожника Заболоцкого — оформителя многих его книг. Эти вести внушали надежду, что, может быть, диагноз врачей ошибочен: ведь Владимир Алексеевич так деятелен, мобилен… А оказалось, что он просто делал отчаянные попытки выбить клин клином. Он прощался с жизнью, друзьями — и медленно, медленно угасал.
Почувствовав приближение конца, Владимир Алексеевич как истинный христианин призвал к себе священника, соборовался, исповедался и причастился Святых Тайн.
Он не хотел для себя пошлой гражданской панихиды в ЦДЛ, в зале ресторана, где обычно на время прощальной церемонии раздвигаются столы и стулья и водружается гроб. Его отпевали в Храме Христа Спасителя, председателем комитета по воссозданию которого он был. Богослужение совершалось по полному, Царскому чину, самим Патриархом и при стечении множества друзей и поклонников. Депутация, равно как и венки от демократических властей, отсутствовали.
Владимир Алексеевич Солоухин родился в один из двунадесятых праздников, в день Святого Духа, который сошел на пятидесятый день по Воскресении Христовом на Его учеников и апостолов, просветил их и дал им способность и силу для проповеди христианского учения. Оттого Владимир Алексеевич обычно отмечал свой день рождения дважды: 14 июня, как было записано в его официальных документах, — и в Духов день, второй день праздника Святой Троицы.
Знаменательно, что похоронили раба Божия Владимира, согласно завещанию, на родном алепинском погосте — в день отдания праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, в Собор Архангела Гавриила-благовестителя.
Вечная ему память…
http://rusk.ru/st.php?idar=111480
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Следующая >> |