| Завтра | Георгий Судовцев | 20.10.2012 |
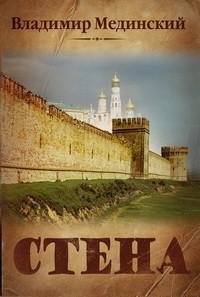 К художественному творчеству людей, имеющих высокий общественный статус, как правило, принято относиться с настороженной снисходительностью: мол, чего уж там, «пробились наверх», и теперь им можно вовсю «блажить», пользуясь своими властными и/или финансовыми возможностями, но претендуя на то, что сеют разумное, доброе и, главное, вечное…
К художественному творчеству людей, имеющих высокий общественный статус, как правило, принято относиться с настороженной снисходительностью: мол, чего уж там, «пробились наверх», и теперь им можно вовсю «блажить», пользуясь своими властными и/или финансовыми возможностями, но претендуя на то, что сеют разумное, доброе и, главное, вечное… Такое отношение можно считать в целом оправданным и даже справедливым. «Синдром Нерона» (да-да, того самого римского императора, воскликнувшего: «Какой великий актёр погибает!») — штука посильнее «Фауста» Гёте. Но из всякого правила, как известно, есть исключения. Например, один статский советник еще царских времён, писавший под псевдонимом Н. Щедрин, по праву вошёл в число классиков отечественной литературы. А творчество Гавриила Державина, бывшего даже министром юстиции Российской империи, вообще считается литературной вершиной русского классицизма и одним из главнейших истоков творчества Пушкина («Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил!»).
Раскрывая страницы первого (и сразу — исторического!) романа Владимира Мединского, в недавнем прошлом — депутата Госдумы, а ныне — министра культуры Российской Федерации, поневоле вспоминаешь и правила, и исключения из них.
Роман «Стена» посвящен событиям великой русской Смуты XVII века, конкретнее — почти трехлетней обороны Смоленска (1609−1611), а его «отдhлы» называются, соответственно: «Пером и шпагой», «Красное и чёрное», «Щит и меч», «Огнём и мечом», «В круге первом», «Гордость и предубеждение» и т. д. Кажется, не хватает только «Войны и мира"… Типично постмодернистский приём, который, вкупе с предисловием Виктора Ерофеева (кстати, на удивление прилично написанным), а затем — именем-отчеством Лаврентий Павлиныч у начальника тайной службы смоленского воеводы и прочими «фишками» в том же духе, сразу заставляет задуматься, «уж не пародия ли он», этот роман?
Но нет. Не пародия. Совсем наоборот. Книгу Владимира Мединского можно читать с удовольствием: прекрасный литературный язык, слегка стилизованный «под старину», динамичный сюжет, отличные «плотные» диалоги, — удивительно зрелая и качественная проза для первого романа. Единственное замечание по существу — герои в начале романа часто противопоставляют Россию Европе и Европу России. Но это противопоставление, для нас привычное и, казалось бы, очевидное, на деле возникло только во второй половине XVII века, когда под руку московского царя перешли земли, ныне именуемые украинскими, с «матерью городов русских», Киевом, — на таком же «кончике мизинца», как Санкт-Петербург через полвека. Только тогда Московия стала Россией, а остальной «христианский мир» к западу от него — Европой, прошедшей горнило Тридцатилетней войны и скрепленной Вестфальским миром…
Это важный мировоззренческий момент, и он способен вызвать определенное читательское отторжение — в отличие от литературного приёма анахронизма, наподобие песенки «Лили Марлен», которую распевает ландскнехт Франц Майер, ставший на Руси Фирсом Майоровым; вовсе необязательное для начала XVI века пенсне на носу Лаврентия Логачёва и т. д. Или от символов непрерывности и единства отечественной истории — таких, как Белый Сокол, ангелы, русские солдаты иных времён, приходящие на помощь защитникам осаждённого Смоленска, или девочка, явившаяся под его стены зимой 1610 года прямиком из блокадного Ленинграда.
Многие эпизоды романа: например, последнее причастие в Мономаховом соборе, где причастники со скрещенными руками отходят от чаши прямо под сабли наёмников Сигизмунда Вазы, ворвавшихся в храм, — звучат настоящим гимном русскому духу.
«С криками и бранью поляки ворвались в храм и принялись рубить направо и налево, не глядя…
Никто не сопротивлялся, люди принимали смерть молча. Бежать было некуда. Стоны даже не заглушали пения, с которым по-прежнему шли к алтарю те, кто еще не причастились.
— Тело Христово примите! Источника блаженного вкусите! — пели люди и шли, и шли, скрестив руки на груди, не оборачиваясь…"
А вот как воспринимает это предатель Дедюшкин: «Он немного отошёл от собора и только тогда понял, что особенно смущает его, — пение, которое доносилось из храма. Смоляне не кричали от ужаса, не молили о пощаде. Они пели «Тело Христово примите"…
— Безумцы проклятые! Юродивые! Скоты! — шептал сквозь сжатые зубы Дедюшкин, и ему становилось всё хуже…" Возмездие настигает предателя немедленно: упавший с собора крест пронзает его насквозь.
Бог — есть. Мы — бессмертны. Россия — наша Родина. Всё остальное — прилагается.
Я не знаю, каким парламентарием, преподавателем, учёным и министром был, есть и будет человек, чьё имя стоит на обложке этого романа. Но то, что им написана более чем достойная книга, которая сопоставима с лучшими образцами отечественной исторической прозы, — лично для меня уже неоспоримый факт.