| Православие и современность | Марина Бирюкова | 05.03.2011 |
Татьяне Львовне Каллистовой пошел уже восемьдесят первый год.  У нее весьма примечательное отношение к этой поре жизни. Она считает, что преклонные годы — годы благодарения. Надо вспомнить всех, кто делал тебе добро. Помянуть каждого, кто поддержал, отогрел, накормил, заступился, научил, вылечил, устроил на работу. да хотя бы просто совет хороший дал в тяжелый час.
У нее весьма примечательное отношение к этой поре жизни. Она считает, что преклонные годы — годы благодарения. Надо вспомнить всех, кто делал тебе добро. Помянуть каждого, кто поддержал, отогрел, накормил, заступился, научил, вылечил, устроил на работу. да хотя бы просто совет хороший дал в тяжелый час.
Про тех, кто делал зло, Татьяна Львовна если и рассказывает, то мало и мельком: времени жаль.
Девичья фамилия ее матери — Струве. Фридрих Вильгельм Георг — в крещении Василий — Струве, крупнейший астроном XIX века, основатель Пулковской обсерватории, родоначальник династии астрономов, давшей этой науке по крайней мере пять замечательных исследователей — прапрадед Татьяны Львовны.
Бернгард Струве, выпускник Царскосельского лицея, губернатор и затем почетный гражданин Перми, оставивший в истории этого края более чем заметный след, доводится Татьяне Львовне прадедом.
Впрочем, у людей, успевших получить образование в советские годы, фамилия Струве ассоциируется не со звездами и не с Пермью, а с «легальным марксизмом», конгрессом Второго Интернационала, первым съездом РСДРП, партией кадетов и сборником «Вехи». Петр Бернгардович Струве Татьяне Львовне двоюродный дед. Она внучка его брата, Василия Струве — виднейшего педагога, директора Константиновского Межевого института, основателя средней школы Московского университета, одного из основателей знаменитого Тенишевского училища.
Здесь же нужно вспомнить о таком заметном деятеле сегодняшнего русского Зарубежья, как профессор Сорбонны, первый издатель Солженицына Никита Струве: он внук Петра Бернгардовича, а Татьяне Львовне троюродный брат.
как профессор Сорбонны, первый издатель Солженицына Никита Струве: он внук Петра Бернгардовича, а Татьяне Львовне троюродный брат.
…И о протоиерее Петре Струве, удивительном человеке, священнике и враче. Он — тоже троюродный брат Татьяны Львовны — погиб в ночной автокатастрофе, когда спешил к больному. Протоиерей Александр Шмеман, посвятив памяти отца Петра одну из своих бесед на радио «Свобода», назвал его «врачом-бессребреником старого русского земского стиля».
По отцовской же линии Татьяна Львовна происходит из старинного священнического рода Каллистовых. Ее дед, Леонид Каллистов, был сельский фельдшер; у него было тринадцать детей и очень много пациентов. Он объезжал их верхом с утра до ночи и однажды лошадь привезла его домой мертвого. В связи с заслугами врача земство направило двух его старших сыновей в кадетский корпус — на стипендию, выделенную костромским дворянством.  Так появились в этом роду офицеры.
Так появились в этом роду офицеры.
Тане Каллистовой было восемь лет, когда за отцом, генералом-артиллеристом, приехали:
— Средь бела дня почему-то, и не на «воронке», а на обычной машине. Я привыкла, что в доме военные, потому и не удивилась. Я даже хотела поиграть им на пианино, потому что всем папиным друзьям играла. Но мама меня остановила: «Это не тот случай».
Мама Татьяны Львовны, Наталья Васильевна, была удивительно сильной и мудрой женщиной. Осиротевшей семье нечем было платить за квартиру, и они без конца переезжали, меняя жилье на дешевое, то есть на худшее — пока не оказались в совсем уж жуткой конуре:
— И в этой конуре у нас находили приют люди, которым было еще хуже, чем нам. Спали где-то на полу, где удавалось их уложить.
Дочь репрессированного военного, да еще и родственница Петра Струве, Татьяна с шестнадцати лет «ходила под наганом» (по ахматовскому выражению), но это не мешало ей быть горячей комсомолкой, активисткой, вечным членом бюро и редактором стенгазеты. Хотя учебу всегда приходилось совмещать с работой: работала с тринадцати лет.
Кто бы сказал ей в те полуголодные годы, что она станет верующей, глубоко убежденной православной христианкой!
Кратко напомню читателям содержание предыдущей публикации Каллистовой в нашем журнале — № 12 (28) — «Добро прорастает и множится».
В 1945 году 16-летняя Татьяна устроилась на работу в библиотеку ВАСХНИЛ, и ее непосредственным начальником оказался Николай Александрович Голубцов. Таня была далека от Церкви, она не ведала, что Николай Александрович — верующий, что он исполняет уже послушание чтеца и готовится стать священником. И уж тем менее могла предвидеть, что он станет одним из виднейших и достойнейших русских пастырей эпохи принудительного безбожия. Но его поразительная доброта и мудрость, его отеческая забота о девочке, лишенной отца, легли в ее душу, как семена — чтобы взойти.
Несколько лет назад Татьяна Львовна похоронила мужа, с которым счастливо прожила сорок лет — ученого-химика Германа Викка. Она посвятила ему массу стихов — и при жизни, и после смерти. Спокойно говорит о том, что готова пойти за любимым. Вот только дел на земле слишком много. Дочь, зять, трое внуков. И еще очень много людей, которым требуется помощь.
На стене ее комнаты составленная ею молитва: «Господи, придай силы духу моему, открой сердце мое любви Твоей, научи меня видеть людей вокруг прежде самой себя.».
А теперь — рассказ самой Татьяны Львовны. Простой и пронзительный, как все ее рассказы — устные и письменные. О судьбе отца, о людях, спасших его и подаривших ему двенадцать лет свободной жизни.
Через этих людей действовал Бог
Мой отец, Каллистов Лев Леонидович, инженер-конструктор 2-го Артиллеристского Управления, с 1937 по 1947 год отбывал заключение «в круге первом», в шарашках — сначала под Москвой, потом на Кировском заводе в Ленинграде, потом в Перми. После небольшого перерыва он был арестован вторично и выслан в Северо-Енисейский район Красноярского края.
Я несколько раз писала обращения на Лубянку с просьбой передать мне отца на поруки в связи с ухудшением его здоровья, однако каждый раз получала отказ. В первый мой визит в эту организацию мне напомнили о том, что я, как комсомолка, не должна хлопотать за врага народа и посоветовали подумать о последствиях. Однако я, зная отца как достойнейшего труженика и кристально честного человека, разрыдалась и заявила, что враги народа — те, кто его посадил. До сих пор не понимаю, почему они не арестовали тут же и меня. Помню, как шла по Сретенке, сотрясаясь от рыданий, с сознанием, что ничего не могу сделать для отца.
с просьбой передать мне отца на поруки в связи с ухудшением его здоровья, однако каждый раз получала отказ. В первый мой визит в эту организацию мне напомнили о том, что я, как комсомолка, не должна хлопотать за врага народа и посоветовали подумать о последствиях. Однако я, зная отца как достойнейшего труженика и кристально честного человека, разрыдалась и заявила, что враги народа — те, кто его посадил. До сих пор не понимаю, почему они не арестовали тут же и меня. Помню, как шла по Сретенке, сотрясаясь от рыданий, с сознанием, что ничего не могу сделать для отца.
После смерти Сталина отец, находясь в ссылке, подал заявление о реабилитации, и мне, наконец, было разрешено взять его на поруки. Теперь он мог вернуться в Москву к своей семье. Однако в дороге он заразился инфекционной желтухой, что резко ухудшило его и без того подточенное страданиями здоровье. Диагноз ему поставил московский врач в больнице, куда отец уже по возвращении своем пришел навестить тяжело болевшую маму. Вызвали «Скорую помощь», и отца увезли в больницу на «Соколиную гору».
К тому моменту я уже окончила Педагогический институт; меня не приняли в аспирантуру как дочь врага народа, но заведующая кафедрой геологии Вера Александровна Варсонофьева взяла меня к себе на кафедру лаборантом с преподавательской нагрузкой. Моим научным руководителем стала Александра Иосифовна Равикович, она же взяла на себя заботу о моем культурном развитии — водила в театры, на концерты, беседовала со мной о музыке и литературе. Сколько их было — людей, творивших добро! Начнешь рассказывать об одном — вспомнишь второго, третьего, четвертого.
Наступило 7 ноября; по существующим тогда правилам мы дежурили в праздничные дни на кафедре. Навестив в больнице маму, по дороге на дежурство я заехала с передачей к отцу. Однако передачу у меня не приняли, а попросили дождаться дежурного врача. (К великому сожалению, я не помню имени). Женщина-врач протянула мне белый халат и сказала: «Пройдите, попрощайтесь с ним».
Можно представить себе мое состояние, когда я вошла в изолятор и увидела похожего на скелет пожелтевшего человека под капельницей — и без сознания. Рядом плакала женщина — старшая медсестра, Анна Ивановна. Оказывается, только у нее получалось попадать иглой в спавшиеся папины вены, и даже ночью она не уходила с дежурства, борясь за больного до последнего. Совершенно безвозмездно — легко ли нам представить это сейчас?
Я пришла в состояние какого-то ступора. Здесь надо представить себе ситуацию: наша семья ждала отца семнадцать лет. За это время мы несколько раз пережили его потерю и обретение.
Впервые это произошло в 37-м, после первого ареста. На вопрос о его приговоре мы получили в тюремном окошке ответ: «Выслан без права переписки». Мама уже знала, что это означает, как правило, расстрел.
Но через два года папе удалось передать нам весточку — через рабочего того военного завода под Москвой, где папа работал в шарашке. Этот рабочий, рискуя своей жизнью, принес нам гербарий с папиным нежным посланием. И подпись, и искуснейшее исполнение не оставляли сомнений, что его собирал и готовил для нас папа. Ничего более того, что отправитель жив, этот рабочий, не назвавший своего имени, сообщить нам не мог. Но это было главное. У нас — у мамы, у брата и у меня — появилась надежда дождаться отца.
Второй раз мы потеряли отца в 1948 году. Через год после освобождения он, имея ограничение в правах, с трудом устроился работать на завод под Владимиром. Завод делал серпы. Папу там называли «инженер, который со всеми здоровается».
Мама поехала к нему и начала работать в школе. Но ровно через год последовал новый арест, который едва не стоил жизни маме; ее с трудом отходили в больнице. А отца, как было уже сказано, сослали в Северо-Енисейский район Красноярского края. В предыдущей своей публикации я довольно подробно рассказывала о жизни отца в тех краях и о людях, которые помогли ему не умереть от голода — Михаиле Леонидовиче Лозинском (многим он известен как переводчик Данте) и его супруге Татьяне Борисовне. Придя к Богу, я поняла, что Он действует именно через достойных людей. Поэтому мне так важно сейчас продолжить рассказ и не забыть ни одного человека из тех, благодаря которым выжил, вопреки всем страшным испытаниям, мой отец.
Господи, как далеко уносят нас воспоминания и как живо в памяти все пережитое, будто это случилось только вчера.
Вернусь, однако, к самым страшным воспоминаниям своей жизни — в больницу на Соколиной горе, к умирающему отцу. Не имея возможности сделать для него хоть что-нибудь, я в состоянии какого-то отупения поехала на дежурство. Как оказалось, это было спасительным поступком. Я должна была встретиться на кафедре со студенткой геофака и позаниматься с ней. Застав меня в состоянии полной прострации и узнав о причине моего состояния, эта студентка, Танечка, возмутилась моей пассивностью: «Звони, действуй, ищи!»
Ее слова вернули меня к жизни. Сначала казалось, что дело безнадежное: никакой помощи я не найду. Потом я дозвонилась до Александры Ивановны Обреимовой, жены крупнейшего физика Ивана Васильевича Обреимова, тещи Андрея Петровича Капицы, нашей дальней родственницы. Результат превзошел все мои ожидания. Александре Ивановне удалось переговорить с тестем Сергея Капицы, известным врачом Дамиром, который и порекомендовал, как он сам выразился, «врача от Бога», своего молодого ученика — Игоря Мартынова. За ним следовало прислать машину, так как он был очень занят. В то время машина в нашей большой семье была только у моего двоюродного брата Юрия Евгеньевича Холодовского, физика-атомщика, профессора Энергетического института. Я позвонила ему, и он тут же вызвался помочь. Таня осталась за меня на кафедре, а я бросилась в больницу, где лечащий врач очень обрадовалась возможности хоть что-нибудь сделать для умирающего. Папа еще держался, но надежд оставалось все меньше и меньше.
Только в 12 ночи, после консилиума у себя в госпитале, где он заведовал отделением кардиологии, приехал Игорь Владимирович Мартынов. И это, напоминаю, в праздничный день! Осмотр продолжался два часа. И вот тут я и поняла, что значит определение «врач от Бога». Казалось, не было ни одного участка на теле больного, которого не коснулись бы руки врача. Был в осмотре и забавный момент. Открыв папин рот, доктор обнаружил у 61-летнего, почти потерявшего тело человека, великолепные зубы и воскликнул: «Нет, человек с такими зубами не должен умереть!» Именно в этот момент у нас, следивших за врачом с замиранием сердца, затеплилась робкая надежда. Наконец в два часа ночи Мартынов вынес свое заключение. По его мнению, был один шанс из ста спасти больного, если к утру, не позже, я сумею достать. сырую поджелудочную железу. Ее нужно перемолоть в фарш, добавив лука, который поможет больному не отторгнуть предложенную пищу. Надо сказать, что к этому времени любая попытка накормить отца приводила к рвоте и потере им сознания.
Тем не менее, совет был дан, и оставалось его осуществить. Легко сказать! Брат отвез Игоря Владимировича домой и вернулся за мной. К этому времени я начала лихорадочно соображать. Ночь. Праздник. До утра несколько часов. В магазинах поджелудочную железу не продают, в аптеках тоже. Я знала, что со всех боен ее сразу отправляют на эндокринные заводы, где получают инсулин. Но как попасть на завод? И кто мне продаст железу?! Мы еще не были развращены сознанием всемогущества денег, да в любом случае их у нас и не было.
И вот тут и начал действовать Бог. Я вспомнила, что среди моих знакомых есть Александра Михайловна Тимофеева, профессор института эндокринологии. А что, если у нее можно что-нибудь узнать? Дождавшись в Юриной машине раннего утра, мы позвонили Александре Михайловне. И в результате получили даже больше, чем могли мечтать — липокаин, вытяжку из поджелудочной железы, да еще в виде уже готовых таблеток. Это значительно облегчало больному процесс приема лекарства, так как не нужно было мучить его фаршем с луком. Правда, лекарство было экспериментальным, с ним только начинали опыты, и ни на одном больном оно еще не было проверено. Но это был шанс!
Однако, когда мы вернулись в больницу, возникло новое препятствие. Заведующая инфекционным отделением категорически возразила против нового и еще не апробированного лекарства, привезенного из неизвестной ей лаборатории. Но я взмолилась: «Неужели мы не воспользуемся этим, единственным из сотни, шансом?!» И Дина Борисовна, у которой муж погиб в сталинских застенках, сдалась: «Иди, давай!».
И опять в нарушение всех больничных правил на меня надели белый халат, и мы с упомянутой уже здесь медсестрой Анной Ивановной начали попытки напоить больного лекарством. Не сразу, но, в конце концов, нам это удалось. Через какое-то время папа пришел в сознание. Нашей радости не было предела! Я взяла отпуск на кафедре, ушла с вечерней работы в школе рабочей молодежи и фактически поселилась в изоляторе. Присутствие постороннего в инфекционном отделении больницы было противозаконным, и меня порою прятали от других врачей в туалете. К счастью (в данном случае), мама сама лежала в больнице и не так нуждалась в моей помощи. А папу нельзя было оставить ни на минуту. Я строго выполняла все советы Игоря Владимировича: обтирала желтое, покрытое сухой коркой тело влажной тряпочкой, выпаивала витаминами. Для этого нужна была настойка из цельных ягод черной смородины, пересыпанной сахаром и выдержанной на солнце. Все эти условия нужно было соблюсти. И — новое чудо! Именно такую настойку, как оказалось, готовила мать моей руководительницы по кафедре, уже упомянутой здесь Александры Иосифовны Равикович. Александра Иосифовна не только прислала мне целую бутылку целительного средства, но и подменила меня на время в работе со студентами.
Нужны были апельсины, которых мы в те годы и в глаза не видели. И они нашлись — у брата папы, и он их нам привез. Нужен был постоянно свежий творог — кто-то готовил и привозил его в больницу. Моим же делом было не пропустить малейших изменений в состоянии больного, угадывать все его просьбы и даже невысказанные желания. Через несколько дней папа начал реагировать на мое присутствие и даже улыбаться. Однако шевелиться он еще не мог. Все время лечения незабвенная Анна Ивановна ставила папе капельницы, а меня водила в служебную столовую поесть суп. (С тех пор я твердо усвоила, что суп — это не выдуманная кем-то традиция, а жизненно необходимое средство для поддержания сил).
Прошло десять дней с начала приема таблеток. И тут вдруг у меня пропало драгоценное лекарство! До сих пор неясно, как это произошло. Оно просто исчезло. Я была в ужасе! Вновь позвонила Александре Михайловне. И вот тут оказалось, что курс лечения составлял именно 10 дней, так что оставшиеся таблетки могли бы причинить вред больному. Я запоздало вспомнила, что именно об этом меня предупреждала лаборантка в институте эндокринологии, где я по записке Александры Михайловны получала спасительный липокаин! Просто от бессонной ночи, от страшного волнения и спешки я не смогла этого усвоить. Исчезновение таблеток тоже можно было отнести к категории чудес.
Понемногу мы начали нашего больного поднимать, сажать. 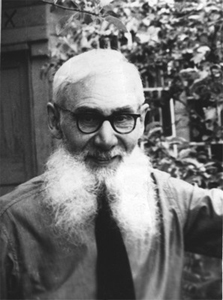 И наконец, настал момент, когда ему удалось встать на ноги и сделать несколько шагов. Закончился мой отпуск. Теперь я могла навещать папу только по вечерам и ночевала с ним в больнице. Положение его оставалось тяжелым. Чтобы не подвести персонал отделения, мы договорились с медсестрой, что если вход свободен, будет светиться окно палаты отца. А если света нет, это могло означать разное. Либо — нужно подождать, либо с папой случилось худшее. Это было большим испытанием. От Новодевичьего монастыря, где находился мой институт, до Соколиной горы добираться около полутора часов, метро в то время там не было. Из института я звонила в больницу. И всю дорогу волновалась. Напряжение спадало только тогда, когда, добежав до ворот больницы, я видела светящееся окно. Оно означало, что отец жив. Дальше я могла уже спокойно идти к его корпусу. Прошло еще два месяца, отец мог уже подолгу сидеть, и мама, которую выписали из больницы, замыслила встретить Новый год втроем. Она решила, что это будет хорошей приметой. К папе в больнице относились с такой теплотой, что и это разрешили. И вот, мы встречаем новый 1955 год вместе — впервые за 17 лет. Как мы счастливы!
И наконец, настал момент, когда ему удалось встать на ноги и сделать несколько шагов. Закончился мой отпуск. Теперь я могла навещать папу только по вечерам и ночевала с ним в больнице. Положение его оставалось тяжелым. Чтобы не подвести персонал отделения, мы договорились с медсестрой, что если вход свободен, будет светиться окно палаты отца. А если света нет, это могло означать разное. Либо — нужно подождать, либо с папой случилось худшее. Это было большим испытанием. От Новодевичьего монастыря, где находился мой институт, до Соколиной горы добираться около полутора часов, метро в то время там не было. Из института я звонила в больницу. И всю дорогу волновалась. Напряжение спадало только тогда, когда, добежав до ворот больницы, я видела светящееся окно. Оно означало, что отец жив. Дальше я могла уже спокойно идти к его корпусу. Прошло еще два месяца, отец мог уже подолгу сидеть, и мама, которую выписали из больницы, замыслила встретить Новый год втроем. Она решила, что это будет хорошей приметой. К папе в больнице относились с такой теплотой, что и это разрешили. И вот, мы встречаем новый 1955 год вместе — впервые за 17 лет. Как мы счастливы!
Прошел еще месяц, и меня вызвали в Военную Прокуратуру СССР для получения документа о полной реабилитации отца.
В долгой очереди я познакомилась с молодым человеком, не москвичом, который о своих родителях знал только то, что они погибли. Он же был освобожден, отбыв срок в качестве члена семьи репрессированных. Не помню подробностей его рассказа, помню только, что мы очень тепло общались. Молодой человек, видимо, оценил мою участливость и как-то особенно потянулся ко мне. В это время подошла его очередь в кабинет, и он попросил меня дождаться его, не уходить. Трудно сказать, почему этого не случилось — виной ли тому моя неготовность ответить незнакомцу на искренний порыв, или мы разминулись с ним, когда я ненадолго отлучилась на улицу. Так или иначе, вернувшись к кабинету, я его не нашла. Я представила себе его состояние, и мне стало стыдно. Получив в свою очередь папины документы, я рванулась на вокзалы. Объехала все три и поняла, что потеряла его безвозвратно. Ни фамилии, ни даже имени, тем более адреса этого человека я не знала. Но этот стыд и это отчаяние при мысли о том, что из-за меня он был разочарован в людях, что теперь ему не с кем поделиться своей болью, жгут меня до сих пор. И вот, дожив до 80 лет, я каждый раз плачу, вспоминая этот случай. Прости, Господи!
С документом в руках я пришла к папе в больницу. Трудно передать всю гамму чувств, которые отразились на его лице. Радость в нем боролась с острым чувством недоумения от сознания всей нелепости и бессмысленности ареста и последующих долгих лет неволи: «Зачем все это было?!». Но присутствовало и удовлетворение: осилил, выжил, сумел остаться собой, встретился, наконец, с теми, ради кого жил.
Но дома меня подстерегало новое испытание. В почтовом ящике лежало адресованное маме письмо с Колымы, где тогда жил брат Вася со своей семьей. Почерк на конверте был чужим, и я вскрыла письмо. Писала медсестра из больницы в Магадане, куда Вася в очень тяжелом состоянии попал после аварии в шахте. У него не действовали руки, одну ногу отняли, а вторая требовала серьезной операции. Жизнь моего брата была в опасности. Не без колебаний я решила скрыть это письмо от мамы: она была еще слишком слаба после болезни. Мама очень удивлялась тому, что я так вяло реагирую на папину реабилитацию. Если бы она знала причину моей сдержанности!
И в те же дни на нас свалилось еще одно несчастье: состояние папы резко ухудшилось. И мы снова бросились к доктору Мартынову. Его не пришлось уговаривать. Тут же приехал и так же тщательно осмотрел больного. И сказал нам, что в этом случае все решает не медицина, а организм больного. Либо через три дня он пойдет на поправку, либо уже ничем нельзя будет помочь.
Я совсем пала духом. Нужна была какая-то мощная поддержка. Бога тогда в моем сознании еще не было, до обретения веры были далеко… И я вспомнила Павла Гребнева, руководителя нашего байдарочного похода по Усе, притоку Печоры. Мы заходили тогда за Полярный круг, случалось, прямо к нашей палатке подходили медведи. Павел никогда не терялся, от него и нам передавалась уверенность.
Я знала, что Павел живет в поселке Вагоноремонт, где-то неподалеку от станции. И вот, наутро после бессонной ночи возле папиной койки, встав на лыжи, я отправилась искать Павла. Нашла. Он был дома. Я еле держалась на ногах от усталости. Павел ни о чем меня не спрашивал. Он просто нагрел воды, поставил передо мной два таза — с холодной и горячей водой, разул меня и сделал контрастную ножную ванну. Потом напоил чаем и, ни слова не говоря, проводил на электричку. И силы, покинувшие было меня, вернулись, и их хватило для продолжения битвы за папину жизнь. А ведь в это время у меня в кармане лежало письмо от медсестры с Колымы, в котором говорилось об угрозе смерти другого родного мне человека, брата Васи. Тогда я поняла, что для духовной поддержки необязательны слова.
Ровно через три дня папе стало легче. А спустя месяц мы получили новое письмо из Магадана, на сей раз написанное братом. Его руки отошли от контузии, и он смог писать сам. Мама очень тяжело пережила известие о Васином ранении, но когда я показала ей первое письмо, она обрадовалась, что он, по крайней мере, остался жив. А мой отец прожил еще двенадцать лет полноценной жизни и сумел еще многое сделать для семьи и для своей малой родины — города Солигалича Костромской области.
Он ведь был настоящий идеалист, в лучшем смысле этого мало употребляемого ныне слова. Зимой он работал на общественных началах в Военно-научном обществе, а летом ездил на свою малую родину. Из кирпичей скотного двора разоренного родительского хозяйства сам сложил себе хижину и занимался любимым делом, а именно разведением садов. В Институте садоводства покупал акклиматизированные саженцы плодовых деревьев и кустов и раздавал их своим деревенским соседям.
Отцу удалось добиться, чтобы от Галича до Солигалича провели хорошую асфальтированную дорогу — взамен старой «лежневки», дороги из поперечно уложенных бревен. Через адмирала Гришанова папа добился установки в селе Дракино, что в нескольких километрах от Солигалича, памятника адмиралу Невельскому, уроженцу этого села.
Когда исполнялось 100 лет маленькой школе в селе Бурдуково, папа пригласил на торжество писательницу Фриду Вигдорову. Привезенные ею чудесные книги о школе, о детстве и сама встреча с этим удивительно сильным и чистым человеком произвели незабываемое впечатление на неизбалованных деревенских школьников и учителей. Всеми своими делами папа пытался пробудить в земляках чувство гордости за свой край, показать значимость каждого человека для малой родины и Родины большой.
http://www.eparhia-saratov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=56 556&Itemid=5