| Русская линия | Инна Симонова | 28.06.2007 |
«Солнце к западу склонялось,
Вслед за солнцем я летел:
Там надежд моих, казалось,
Был таинственный предел…»
«Вся жизнь моя — одно желанье,
Несбывшейся надежды сон,
Или художника мечтанье,
Набросанное на картон».
(В. С. П е ч е р и н)
«… Я воспитан в России, нет у меня воспоминания, которое бы не соединялось с понятием о русском, нет надежды, не основанной на русском быте. Это одно невольно сливает мою будущность с моим отечеством…»
«…Я совершенно такой же аскет труда, как бывали средневековые монахи, только они посвящали себя молитвам, а я труду…»
(Ф.В. Ч и ж о в)
… В конце января 1878 года из Дублина в Москву на имя Федора Васильевича Чижова пришло письмо всего в несколько строчек: «Скажи, ради Бога, что стало с тобой, любезный Чижов. Твое последнее письмо лежит у меня на столе. Оно от 10-го октября, а теперь по вашему 11 января, стало быть, целых три месяца. Ты никогда не оставлял меня так долго без отзыва… Не забудь, что ты единственная и последняя нить, связывающая меня с Россиею — если она порвется, то все прощай… Твой Печерин». Не будучи распечатанным, письмо было возвращено отправителю в связи со смертью адресата.
 Владимир Сергеевич Печерин (1807−1885) и Федор Васильевич Чижов (1811−1877). Два оригинальных деятеля прошлого века прозападнического и славянофильского толков. Филолог и математик. Поэт и предприниматель. Мечтатель и практик. Их взаимоотношения — малоизвестная страница русской истории 1830 — 1870-х годов, свидетельствующая о порой непростом переплетении в ходе общественно-политической и идейной жизни России конкретных судеб.
Владимир Сергеевич Печерин (1807−1885) и Федор Васильевич Чижов (1811−1877). Два оригинальных деятеля прошлого века прозападнического и славянофильского толков. Филолог и математик. Поэт и предприниматель. Мечтатель и практик. Их взаимоотношения — малоизвестная страница русской истории 1830 — 1870-х годов, свидетельствующая о порой непростом переплетении в ходе общественно-политической и идейной жизни России конкретных судеб.
Дружеские связи Печерина и Чижова зародились в конце 20-х годов XIX века во время учебы в Петербургском университете. Оба они происходили из незнатных и небогатых дворянских семей и приехали в Петербург из провинции. Впечатления детства и уклад в семьях сформировали в них первое отношение к действительности.
Политические убеждения Чижова поначалу были консервативно-охранительными. Его отец преподавал в Костромской гимназии. Уклад в семье был патриархальным, дети воспитывались в строгости и почитании родителей, на примерах христианских добродетелей.
Детство Печерина прошло в постоянных кочевьях по степям полуденной России, в атмосфере тиранства отца-офицера. Чувство скуки, недовольства, досады на окружающий его бессемейный, неукорененный быт проецировалось на всю Россию. «Одним моим утешением был географический атлас, — припоминал он в зрелые годы впечатления далекой юности. — Бывало, по целым часам сижу в безмолвном созерцании над картою Европы. Вот Франция, Бельгия, Швейцария, Англия!.. Сердце на крыльях пламенного желания летело в эти блаженные страны».
Решающую роль в обострении чувства социальной справедливости, в формировании радикальных убеждений у юного Печерина сыграл, подобно наставнику А. И. Герцена Бушо, республикански настроенный гувернер-руссоист Вильгельм Кессман, состоявший в тесных связях с будущими декабристами. Проповедуемые Кессманом идеи вольности и христианского равенства глубоко запали в душу юного воспитанника.
Однако уже в эти годы Печериным овладевает не столько стремление к конкретным революционным действиям, сколько умозрительное, поэтическое, с налетом театральной аффектации желание личного подвига и славы: «Умереть за благо народа и видеть мать, стоящую у подножия моего креста, было одним из мечтаний моей юности», — признавался он в своих воспоминаниях. Печерин-подросток приходил в отчаяние при мысли, что в обстановке окружающего его рабства, забитости и застоя осуществить предназначенную ему, как казалось, самой судьбой высокую освободительную миссию не удастся. Отсюда — рано пробудившиеся в нем космополитические стремления: «С самого детства я чувствовал какое-то странное влечение к образованным странам — какое-то темное желание переселиться в другую, более человеческую среду»; «В степях южной России я часто следил за заходящим солнцем, бросался на колени и простирал к нему руки: «Туда, туда, на запад…»
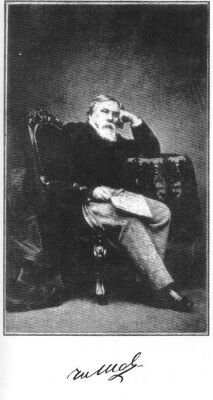 В годы, последовавшие за восстанием декабристов, когда Чижов и Печерин, со своими столь несхожими представлениями о жизни, идеалами и надеждами, стали «казеннокоштными» студентами столичного университета, большая роль в становлении свободолюбивых идеалов у молодежи принадлежала университетам. В них, по словам Герцена, словно «в общий резервуар, вливались юные силы России, со всех сторон, из всех слоев; в их залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны, во все слои ее».
В годы, последовавшие за восстанием декабристов, когда Чижов и Печерин, со своими столь несхожими представлениями о жизни, идеалами и надеждами, стали «казеннокоштными» студентами столичного университета, большая роль в становлении свободолюбивых идеалов у молодежи принадлежала университетам. В них, по словам Герцена, словно «в общий резервуар, вливались юные силы России, со всех сторон, из всех слоев; в их залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны, во все слои ее».
Обучаясь на разных факультетах: Чижов — на физико-математическом, Печерин — на филологическом, — они пытались в научных занятиях найти главную цель и смысл своей жизни. Желание части русского образованного общества «эпохи безвременья» уйти с головой в науку как единственное убежище от «деспотизма властей» сподвижник Герцена Н. П. Огарев считал закономерным: в годы «притаения общественного вопроса лучшие люди, то есть наиболее образованные, те, которые не могли ни пристать к успокоившейся толпе, ни уйти в чувство собственной отчужденности от человеческого мира, ушли в науку и отвлеченные стремления. Это направление было естественным».
В то время как Чижов с увлечением занимался математикой у лучших университетских профессоров, Печерин писал статьи на историко-филологические темы, делал стихотворные переводы их греческой антологии и Шиллера. Своими незаурядными способностями он обратил на себя внимание попечителя университета К. Н. Бороздина, который освободил его от обязательного присутствия на некоторых лекциях и поручил разбор старинных манускриптов. С радостным усердием предавшись новым академическим занятиям, Печерин стал тешить себя надеждой «прокоротать век в уединении с греками и латинами». «Вот, — думал он, -единственное убежище от деспотизма: запереться в какой-нибудь келье да разбирать старые рукописи…»
Разразившаяся над Западной Европой гроза революции 1830 года разбудила студенческую молодежь в России. «Воздух освежел, все проснулись, даже и казенные студенты, — вспоминал Печерин. — Да и как еще проснулись! Словно Дух Святой низошел на них. Начали говорить новым, дотоле неслыханным языком: о свободе, о правах человека и пр. и пр.».
В эти годы значительную роль в идейном развитии Печерина и Чижова призвана была сыграть «святая пятница» — небольшой кружок студентов и выпускников Петербургского университета, собиравшихся по пятницам на квартире у будущего известного историка литературы, критика и цензора Александра Васильевича Никитенко. «Пятницы» Никитенко принадлежат к числу наименее изученных кружков рубежа 20-х — 30-х годов XIX века. Уникальность их состоит в том, что они являлись единственным из известных в то время объединений свободомыслящей студенческой молодежи в Петербурге, где сильнее всего сказывалась близость к Царскому Двору и центральным правительственным органам, — большинство из известных в литературе студенческих кружков тех лет создавались в Москве или на периферии.
Заседания «святой пятницы» носили характер литературно-философских бесед. Они преследовали цель дать широкий простор для творческой мысли их участников. М. О. Гершензон, один из первых исследователей жизни и творчества Печерина, так описывает дружеские собрания на квартире у Никитенко: «Здесь царствовали непринужденность, идеализм и поэзия; горячие споры о театре сменялись чтением стихов, вслух высказывались утопические мечты о будущей деятельности на пользу человечества, высмеивалось мещанство общества…»
Революционные события во Франции, Бельгии, в ряде германских и итальянских княжеств, восстания в Польше и Литве, усмирение бунта военных поселян, гнет цензуры, запрещение журнала Ивана Киреевского «Европеец» — таковы острые, злободневные темы, обсуждавшиеся в кружке. Критика негативных общественных явлений велась с прозападнических позиций, в частности, идеализировалась политическая система во Франции с ее палатой депутатов. Уже на закате жизни Чижов в письме к одному из бывших членов кружка сравнивал разночинное студенчество 60-х — 70-х годов со своим поколением: «Припомни начало «пятниц» у Никитенко: тоже все было юное поколение, все ломающее, но не лихо, правда…»
Взгляды Никитенко, окончившего университет в 1828 году и уже успевшего защитить диссертацию и получить звание адъюнкта, отличались либеральной оппозиционностью. Он задавал тон беседам. Среди членов кружка были будущий государственный деятель, дипломат, секретарь Русского археологического общества Д. В. Поленов (отец знаменитого художника), поэт и переводчик М. П. Сорокин, чиновник Министерства иностранных дел и преподаватель в Павловском корпусе И. К. Гебгардт. Печерин через всю свою жизнь пронесет в сердце самые нежные воспоминания о «cвятой пятнице» и ее членах. «Не будь вы, — писал он спустя много лет Никитенко, — я, может быть, погруз бы в пошлости обыкновенной петербургской жизни. Вы протянули мне руку, вы призвали меня на ваши вечера, вы сохранили священный огонь в душе моей».
В связи с неудовлетворительной постановкой образования в высших учебных заведениях России и нехваткой хорошо подготовленного отечественного профессорско-преподавательского состава с конца 20-х годов ХIХ века лучшие выпускники университетов направлялись на стажировку за границу. В их числе должен был быть и Чижов, блестяще окончивший в 1832 году университет со степенью кандидата физико-математических наук. Но революционные события в Европе вынудили русское правительство с мая 1832 года запретить заграничные командировки из опасения возможного тлетворного влияния на соотечественников революционизирующих западных идей. «Я признаюсь, — говорил в одной из частных бесед Император Николай I, — что не люблю поездок за границу. Молодые люди возвращаются оттуда с духом критики, который заставляет их находить, может быть справедливо, учреждения своей страны неудовлетворительными».
Чижов был оставлен при Петербургском университете, где стал читать в качестве адъюнкт-профессора алгебру, тригонометрию, аналитическую и начертательную геометрию, теорию теней и перспективы и готовить под руководством академика М. В. Остроградского диссертацию на степень магистра.
Печерин, успешно окончивший университет годом ранее, один из всего выпуска со степенью кандидата, занял место лектора и суббиблиотекаря при университете и старшего учителя в 1-й гимназии. «Началась жизнь петербургского чиновника, — вспоминал он, — я сделался ужасным любимцем товарища министра просвещения С. С. Уварова… начал просто ездить к нему на поклон, даже на дачу… Раболепная русская натура брала свое. Я стоял на краю зияющей пропасти».
Однако вскоре внутренние потребности страны привели к отмене запрета на выезд за границу. В марте 1833 года Печерин в числе шестнадцати молодых ученых (среди них — знаменитый в будущем анатом, основоположник военно-полевой хирургии Н. И. Пирогов и известный правовед, историк философии, педагог П. Г. Редкин) был послан в Берлин на двухгодичный срок для подготовки к профессуре. Открывая новые университеты, увеличивая штаты профессоров, направляя молодых людей учиться за границу и в то же время ограничивая проявления свободомыслия и оппозиционности, правительство тем самым впадало, по словам Никитенко, в неразрешимое противоречие: оно множило «массу несчастных, которые не знали, куда деться со своим развитым умом, со своими требованиями на высшую умственную жизнь». Через месяц после отъезда Печерина Никитенко с горечью записал в своем дневнике: «Опять велено отправлять за границу для усовершенствования в науках… избранных молодых людей, — а что они будут делать тут, возвратясь со своими познаниями, с благородным стремлением озарить свое поколение светом истины?..»
Сделав остановку в Риге, Печерин отправил своим петербургским друзьям письмо, весьма характерное для его душевного состояния в то время: «Первый день — браните меня, как хотите, — я плакал как дитя. Все мое блестящее будущее затмилось: я видел только ужасные два года, отделяющие меня от Петербурга… Приветствуйте от меня всю нашу незабвенную «пятницу», всех и каждого. Душеньку Чижова поцелуйте за меня». И подписался: «Г. Печерин, рыцарь, едущий в Палестину. В своей прекрасной родине он оставил все сокровища своего сердца, а впереди раскрывается мало-помалому перед ним обетованная земля, где сияет ему навстречу вечное солнце Истины».
Спустя два с половиной месяца Печерин все еще надеялся, углубив свои познания, быть полезным родине, томился вдали от «любезного Петербурга», огорчался отсутствием писем от друзей: «Жестоко не иметь так долго от вас известий! Как процветает наша «пятница»? Как живут и развиваются мои юные друзья, исполненные свежей поэтической жизни? Как уживаются их (или лучше: наши) прекрасные идеалы и надежды с враждебною действительностью?»
Перелом в умонастроениях Печерина наступил во второй половине 1833 года. Во время вакаций, путешествуя по Швейцарии и Италии, он оказался в самой гуще национального и социально-освободительного движения Европы, познакомился с различными течениями революционной демократии, стал изучать произведения социалистов-утопистов.
В декабре 1833 года Печерин возвратился в Берлин, обуреваемый романтической жаждой борьбы и революционной деятельности. Для него утопический социализм стал не просто учением о социальном переустройстве, но своего рода верой, вдохновляющим идеалом. «До тех пор у меня не было никаких политических убеждений вообще, — признавался он впоследствии Чижову. — Был у меня какой-то пошленький либерализм, желание пошуметь немножко и потом, со временем, попасть в будущую палату депутатов конституционной России, — далее мои мысли не шли. В конце 1833 года вышла в свет брошюра Ламенне «Paroles d’un croyant» [1], наделавшая тогда много шума. Это было просто произведение сумасшедшего, но для меня оно было откровением нового Евангелия. Вот, думал я, вот она, та новая вера, которой суждено обновить дряхлую Европу! Эти великодушные республиканцы, которых теперь влекут перед судилища, — святые мученики; присоединиться к их доблестному сонму, разделить их труды и опасности, пожертвовать жизнью святому делу — вот благородная и возвышенная цель. Политика стала для меня религией, и вот ее формула: республика есть республика, и Маццини [2] ее пророк!»
Академические лекции немецких профессоров перестали интересовать Печерина, за исключением лекций профессора-гегельянца Ганса, которые он слушал буквально со слезами на глазах. «Красноречивый профессор, — восторженно сообщал Печерин друзьям в Петербург, — доведши историю до последней минуты настоящего времени, в заключение приподнял перед своими слушателями завесу будущего и в учении сен-симонистов и возмущении работников (соаlitions des ouvriers) показал зародыш настоящего преобразования общества. Понятие «чернь» исчезнет. Низшие классы общества сравняются с высшими, так же как сравнялось с сими последними среднее сословие. История перестанет быть для низшего класса каким-то недоступным, ложным призраком — нет! история обымет равно все классы; все классы сделаются действующими лицами истории, и тогда история сольется в одну светлую точку, из которой начнется новое, совершеннейшее развитие. Таким образом исполнится обещание христианской религии; таким образом христианство достигнет полного развития своего!»
В Петербурге участники «пятницы» жадно читали письма, приходящие от Печерина из Берлина; в нем видели человека, до краев наполнившего свою жизнь интеллектуальным трудом и самостоятельно, по собственному замыслу, формирующего свою свободную, творческую личность. Трагедия «Вальдемар» и поэма «Торжество смерти», присланные к ежегодному февральскому празднику «пятницы», распространялись в списках, предвосхищая грядущую проповедь Бакунина об очистительном духе разрушения твердынь деспотизма. Иносказательные образы поэмы: Немезида, посылающая «за столетние обиды» на столицу тирана Поликрата Самосского (Николая I) бушующее море, пронзенные кинжалами сердца и пять померкших звезд (пять казненных декабристов), благословляющие карающий бич Немезиды, — воодушевляли и звали к самопожертвованию. Впоследствии с поэмой «Торжество смерти» познакомился Федор Михайлович Достоевский. В романе «Бесы» он дал обстоятельный иронический пересказ многих ее эпизодов, приписав авторство «аллегории в лирико-драматической форме» одному из своих героев — Степану Трофимовичу Верховенскому.
Спустя тридцать лет в одном из писем к Печерину Чижов так вспоминал о влиянии на него в те годы личности друга: «… для меня ты был прекрасен в юности… Я пленялся твоею нравственною красотою, и чудно-прекрасный образ твоего существа поселился в душе моей». Вслед за Печериным Чижов стал внимательно читать памфлет Ламенне и делать из него выписки. «Идея свободы меня наполняет, я не могу без нее жить!» — патетически восклицал он по завершении чтения. — «…неужели я ничего не принесу человечеству? неужели кроме могильного камня ничего не напомнит о моем существовании? О! Это ужасно! Вот мысль — она мне не дает покоя».
Относясь критически к произволу властей, не встречавшему сопротивления со стороны общества, Чижов с возмущением описывает ход торжеств, посвященных открытию Александровской колонны в Петербурге: «120.000 по мановению одного осла идут, чтобы воздвигнуть монумент другому». Он вшивает в дневниковую тетрадь подметный листок, в который был завернут купленный им в мелочной лавке клей. Текст листка содержал чуть искаженный стих Александра Полежаева, обращенного к Императору Николаю I:
Как тяжело сказать уму:
Оставь свой свет, примись за тьму, —
И как легко сказать
И на бумаге написать:
Мы, Николай. Быть по сему.
В другой раз Чижов заносит в дневник услышанный рассказ о том, как Государь Николай Павлович безуспешно пытался подвергнуть строгому административному взысканию профессора медицины Хотовицкого, не явившегося в Зимний по зову камердинера Двора, и с юношеской горячностью добавляет: «Дай Бог побольше таких вещей, авось-либо понакопится, авось и мы услышим, когда к черту пойдут эти Императорские Короны с их венчанными главами!»
Между тем душевная жизнь Печерина превращалась в настоящую пытку. Близившееся возвращение в Россию, в «огромный Некрополис», пугало и повергало в отчаяние. Оттуда поступали вести о репрессиях в отношении московских студентов, проходивших по «Сунгуровскому делу», подавлении попытки нового восстания в Польше, о закрытии «Московского телеграфа», об арестах Герцена, Огарева, Сатина. Чуть ли не на каждом шагу за границей сталкивался Печерин с проявлениями ненависти к николаевской России.
«Русских везде в Германии, не исключая и Берлина, ненавидят… Одна дама пришла в страшное раздражение, когда наш бедный студент как-то вздумал защищать своих соотечественников. «Это враги свободы, — кричала она, — это гнусные рабы!» Так описывал один из молодых ученых, приехавший в Петербург из Берлина и доставивший членам «пятницы» письмо от Печерина, ту враждебную атмосферу, в которой они находились.
Жизнь в обстановке неприязненного отношения к России и русским превратила Печерина в убежденного западника: «Глыба земли — какое-то сочувствие крови и мяса — неужели это отечество?.. Я родился в стране отчаяния! друзья мои, соединитесь в верховный ареопаг и судите меня! Вопрос один: быть или не быть? Как! Жить в такой стране, где все твои силы душевные будут навеки скованы — что я говорю, скованы! — нет: безжалостно задушены — жить в такой земле не есть самоубийство? Мое отечество там, где живет моя вера!»
Как ни стремился Печерин отдалить встречу с «бесплодными полями безнадежной родины», в 1835 году ему пришлось возвратиться в Россию с твердым намерением уехать за границу при первом благоприятном случае.
Настроение Печерина еще более ухудшилось, когда он узнал о своем назначении исполняющим должность экстраординарного профессора греческого языка и словесности в Московский университет: в Петербурге оставались друзья, туда долетали «теплые западные ветры», Москва же была для него совершенно чужим городом, где еще резче, чем в Петербурге, обнаруживался неевропейский образ жизни и где предстояло погрузиться в омут обывательщины. «Может быть, — писал он, — в Петербурге я мог бы ужиться как-нибудь; но разгульная Москва с ее вечными обедами, пирушками, вечеринками и беспрестанною болтовнею вовсе не шла к тому строгому и грустному настроению, с каким я возвращался из-за границы».
Во все время пребывания Печерина в Москве Чижову в Петербург шли письма, полные отчаяния: он писал, что «задыхается в Москве», жаловался на «скуку смертельную», уверял, что он ни за что «не амалгамируется с Москвою».
Начало преподавательской деятельности Печерина в Московском университете совпало с введением нового общеуниверситетского устава 1835 года, который ликвидировал университетскую автономию и предписывал осуществлять бдительный контроль за чтением лекционных курсов. Тем не менее, Печерин сумел превосходно поставить преподавание своего предмета, соединяя, по свидетельству И. С. Аксакова, с замечательной эрудицией живое поэтическое дарование и чутко отзываясь на все общественные вопросы своего времени. Самые благоприятные отзывы о лекциях Печерина оставили также М. П. Погодин, Ф. И. Буслаев, Ю. Ф. Самарин, Д. А. Валуев, В. В. Григорьев, сами слышавшие их в Московском университете или воспроизводившие свидетельства близких им лиц.
Наряду с исполнением должности экстраординарного профессора, Печерин, как казалось, увлеченно работал над диссертацией под названием «Observationes criticae in universam Antologium graecam», о чем и писал Чижову: «… манускрипт мой ужасно растет». Никто, даже петербургские друзья Печерина, не подозревали о сложной и мучительной работе, совершавшейся в его душе: он томился в ожидании случая для бегства за границу, чтобы непосредственно включиться в общеевропейскую революционную борьбу. В швейцарской кондитерской, находившейся неподалеку от Московского университета, он читал гамбургские газеты, в которых с жадностью глотал встречавшиеся сообщения о далеком Лагранже — глухом местечке в Швейцарии, где временно обосновался скрывавшийся от преследований французской полиции один из вождей национально-освободительного движения Италии Джузеппе Мадзини. Туда, к этой «святыне», рвалась его душа…
В июне 1836 года, получив на время летних вакаций заграничную командировку для завершения работы над диссертацией, Печерин навсегда оставил Россию, отрекшись от родных и друзей, занимаемого общественного положения, «весьма выгодного и обставленного всеми прелестями вещественного довольства», от несомненно блестящей, с точки зрения всех знавших его лиц, будущности, а главное — от «самовластья Николая I». Тем самым Печерин выбрал для себя роль «лишнего человека» в своем отечестве, — не случайно литературоведы А. А. Сабуров и В. А. Мануйлов считали его в какой-то степени прототипом лермонтовского Печорина. Эмиграция Печерина, наряду с «Философическими письмами» Чаадаева, явилась свидетельством непримиримости части так называемого «общества» с российской действительностью тех лет. В 1863 году Огарев в письме к Печерину попытается оправдать его своеобразный одинокий протест словами: «… для раба отечество, не дающее свободы, перестает быть отечеством».
Итак, один из представителей второго поколения дворян-революционеров («Протест заявляют впервые декабристы, и потом идут вот такие люди, как Печерин», — скажет Л. Н. Толстой), не видя внутри России реальных сил для борьбы с самодержавными устоями Российского государства, вырвался из «душной атмосферы рабства» на, как ему казалось, свободный и вольный воздух Западной Европы.
Посетив Лагранж, Печерин почти на год поселился в Лугано, который был в то время «фокусом революции», сборным местом мадзинистов. Из серии писем, отправленных оттуда Чижову, в архиве последнего сохранилась только часть. В одном из них, датированном декабрем 1836 года, Печерин, все еще ни слова не говоря о своих намерениях, «заклинает» друзей выслать ему денег. Догадываясь о роковом решении, принятом Печериным, Чижов показал письмо членам «пятницы». На совете, собравшемся в составе Чижова, Гебгардта, Поленова и Никитенко, постановили выслать Печерину нужную сумму для его скорейшего возвращения в Россию.
В апреле 1837 года на имя Чижова снова пришло письмо, в котором Печерин уже определенно сообщал, что решил навсегда оставить Россию, так как «не создан для того, чтобы учить греческому языку», что он чувствует в себе «призвание идти за своей звездой», а звезда эта ведет его в Париж — главную лабораторию социально-утопических теорий того времени.
Члены петербургской «пятницы» были огорчены полученным известием по двум причинам: во-первых, они теряли друга, на которого возлагали самые большие надежды (современники утверждали, что Печерину в России суждена была будущность главы московских западников Т. Н. Грановского); во-вторых, поступок Печерина, считали они, мог тяжело отозваться на всей системе высшего образовании страны и, в частности, привести к новому запрету стажировок молодых ученых за границей. Чижов же, может быть единственный из всего кружка, осуждал Печерина прежде всего за то, что тот посмел о с т, а в и т ь р о д и н у, пусть несовершенную, но именно оттого как нельзя более нуждающуюся в умных, честных, совестливых людях, способных ее преобразить. Пересылая Печерину деньги, собранные членами «пятницы», Чижов с возмущением писал: «Теперь мы стоим в неприятельских лагерях; все, что мы можем иметь между нами общего, должно относиться собственно к нам или лучше к тому чувству дружбы, которое может идти независимо ни от каких внешних обстоятельств… Образ твоих мыслей, порядок вещей, понятия людей, тебя окружающих, совершенно противоположны моим… и потому все, что бы ты ни писал ко мне, кроме самого себя, будет мне чуждо… переписка с тобою, выходящая из пределов нашей дружбы, может навлечь подозрение, что я разделяю с тобой чувство нелюбви к родине».
В первые годы пребывания за границей Печерин стремился возобновить прежние связи с представителями революционной эмиграции различных стран, завязанные им еще в 1833—1834 годах, изучал «коммунизм Бабефа, религию Сен-Симона, систему Фурье». Однако, несмотря на страстное желание проявить себя на «блистательном и героическом» поприще революционно-политической деятельности, Печерин так и не смог найти применение своим знаниям и силам. Тем временем кошелек его истощился. Начались годы злосчастных скитаний по дорогам Западной Европы. Он распродавал свою одежду, просил подаяния, ночевал под открытым небом, с радостью принимался за любой труд: торговал сапожной ваксой, служил секретарем у английского капитана-масона, которому за ничтожную плату переводил его проповеди на французский язык… Печерин подбадривал себя: «Теперь мой идеал осуществился. Доселе я был теоретическим республиканцем, a priori разглагольствующим о нуждах рабочего класса, — теперь я буду жить между работниками их собственною жизнию!» Дух его был еще не сломлен. В голове громоздились предприятия, одно невероятнее другого…
Испытывая нужду в единомышленниках-соотечественниках, Печерин предложил нескольким русским, в том числе и Чижову, фантастический проект, «любопытную русскую робинзонаду эпохи Кабе и Фурье»: ехать в Америку и там основать «образцовую» русскую общину. Земледельческий труд в ней предполагалось совмещать с литературным творчеством и издательской деятельностью. Честолюбивая вера в свое незаурядное призвание и организаторские способности вселяла в Печерина убежденность в осуществимости этого намерения.
Среди бумаг Чижова сохранился черновик письма, написанный им в первой половине 1838 года некоему Лахтину, являвшемуся, как можно предположить, посредником в задуманном предприятии между Печериным и его друзьями в России. Оказавшись в сложной ситуации, когда участие в судьбе друга заглушалось страхом попасть в списки неблагонадежных за тайную связь с эмигрантом и участие в его секретных замыслах, Чижов подверг критике предложение Печерина в форме, рассчитанной на перлюстратора. Содержание письма говорит о стремлении Чижова уверить предполагаемого агента III отделения в том, что он и лица, имена которых Печерин по неосторожности упоминал в своих корреспонденциях как потенциальных работников будущего фаланстера в Америке, не только не заговорщики, но самые верноподданные сыны отечества. Донести же правительству о печеринских письмах «самого странного содержания» он посчитал излишним потому, что не видел в них ничего, могущего отразиться на благосостоянии России, ибо предприятие тридцатилетнего Печерина — безрассудное и представляет собой всего лишь «бредни пылкого воображения», «поэтическую фантазию», «шалость осьмнадцатилетнего молодого человека».
Вместе с тем Чижов не отрицал того, что и он в прошлом всерьез увлекался социальными теориями Запада: «Я был в университете в то время, когда новая французская школа свирепствовала во всей Европе… К несчастью, мы подпали под эту струю истории и заплатили дань времени; многие из моих товарищей сформировались по образцам героев французских романов… Не могу вам сказать, что спасло меня, может быть мои положительные занятия науками математическими…»
Хотя письмо к Лахтину для характеристики мировоззрения Чижова не показательно, ибо автор не мог позволить себе быть искренним до конца, все же в нем явственно звучат те мысли и чувства, которые по прошествии нескольких лет лягут в основу убеждений будущего славянофила: «Я… воспитан в России, нет у меня… воспоминания, которое бы не соединялось с понятием о русском, нет надежды, не основанной на русском быте… Это одно невольно сливает мою будущность с моим отечеством». Ради этих своих взглядов Чижов готов был даже отказаться от дружеских связей с товарищем прежних лет: «К Печерину я не могу отвечать ничего, перепискою с ним я мог бы компрометировать себя, тем более, что и нечего мне написать к нему утешительного… Мне горько думать, что, может быть, различие наших понятий разорвет узы нашей дружбы, — но я говорю ему и скажу каждому, что готов пожертвовать всеми узами прежде, нежели решусь действовать, даже думать что-либо, могущее отделить меня от отечества, в котором только я и могу найти все элементы жизни и нигде больше».
Тем не менее, Чижов оставлял за собой право писать к Печерину и предполагал летом того же года заехать к его отцу Сергею Пантелеевичу в Крым с тем, чтобы передать просьбу сына о присылке денег.
Дневниковые записи Чижова середины 30-х годов почти дословно повторяют честолюбивые мечты Печерина о личном избранничестве в духе Ламенне («Кто знает, может быть, судьбою предназначено мне быть апостолом веры всеобщей, веры Единого Мироправителя — Единой Святой Природы, и смею ли я сбросить с себя великое назначение?») Однако всякий раз, когда дело касалось поступка, благоразумие и здравый смысл, присущие его натуре, брали верх. К 1838 году Чижову удалось успешно защитить диссертацию, получить звание магистра математических наук; он продолжал чтение лекций в Петербургском университете, стал автором ряда печатных трудов. Положение его было как никогда прочным, быт налаженным, будущее представлялось определенным и не подверженным никаким ударам судьбы. Печерину «можно согласиться на все и предпринимать все, что ни придет в голову, он поставил себя в такое положение, в котором, как в воде, чтобы спасти (сь), хватаешься за все. Но вопрос, к чему мне предпринимать подобные путешествия?» — недоумевал он, говоря об авантюрном предложении Печерина.
Итак, друзья, оставшиеся в России, некогда с восторгом внимавшие дерзновенным мечтаниям Печерина и, казалось, готовые следовать за ним до конца, отвернулись, увидев в его предложении, да и во всех его поступках, не обдуманный и взвешенный план, а одну лишь юношескую поэтическую фантазию. Печерин, оторванный от родины физически, оказался теперь оторванным от нее и духовно.
Вскоре в Россию пришло известие, ошеломившее всех: в итоге четырехлетних скитаний на чужбине Печерин очутился… в католическом монастыре.
В чем же причины краха революционно-романтических мечтаний Печерина?
Во-первых, обстановка в Западной Европе в конце 30-х годов XIX века была такова, что развиваемые многочисленными философскими и политическими школами социально-освободительные идеи не выдерживали испытания практикой и приводили Печерина к полному их отрицанию. Он вынес горькое разочарование из общения с рядом второстепенных «апостолов» утопического социализма (Грилленцони, Банделье, Угони, Бернацким, Фурденом, Лекуантом, Потоцким) с их чрезмерным даже для него, истого мечтателя, прожектерством, суетностью, склонностью к патетике, нечистоплотностью в человеческих взаимоотношениях.
Во-вторых, сам Печерин, при всем своем безграничном бунтарстве, не имел качеств, необходимых для революционера: он был слишком «поэт» для будничной организационной работы. «Я хотел бы теперь заснуть и спать, спать до тех пор, пока судьба не разбудит меня и не скажет: твой час пришел! Ступай и делай!» — это признание Печерина из письма к Чижову весьма характерно для его образа мыслей и настроений. На голгофу революционной борьбы Печерина влекла театрально-аффектированная жажда личной славы: «Слава! Волшебное слово! Небесный призрак, для которого я распинаюсь! О, Провидение! Прошу у тебя лишь дня, единого дня славы, и дарю тебе остаток моей жизни!..»
Слепо с юношеских лет, следуя за своей звездой, будучи убежденным в своем избранничестве («Сам Бог с младенчества меня избрал, да буду я вождем Его народу»), Печерин, по мнению Чижова, столкнувшись с реальностью «иноземной» жизни, до этого знакомой ему лишь поверхностно, затаил обиду на тех, кто остался равнодушным к его идеям, кто «при его появлении не поднял знамя свободы и не провозгласил его своим диктатором». В это же самое время, в октябре 1840 года, Огарев писал Герцену: «Какая-то безнадежность и безысходность… Мы виноваты: мы вышли в жизнь с энергическим сердцем и с ужасным самолюбием и нагородили планы огромные и хотели какого-то мирового значения; право! Мы тогда чуть не воображали, что мы исторические люди. Ну, вот мы и разуверились, и нам душно; мы не знаем, куда приспособить потребность деятельности…»
В той же растерянности оказался и Печерин. Нужно было что-то предпринимать. И он сделал очередной свой выбор. 15 октября 1840 года он вступил в проповеднический орден редемптористов, известный своим крайним аскетизмом и подвижничеством.
Тон и содержание посланного им вскоре в Россию письма были совершенно неузнаваемы. «Верьте мне, друг, — обращался Печерин к Чижову, — что только Бог и Его бесконечная любовь могут наполнить пустоту души, которая обманулась в самых дорогих стремлениях и которая, убедившись в бесплодности всех своих жертв, раздирается нестерпимым раскаянием… Да будет и вам дано понять когда-нибудь, как понял я эту великую истину, и оценить мир и его утехи по достоинству, то есть как пустоту и ничтожество!»
Подобное отступничество от абстрактной, поэтически представляемой социальной утопии к религиозной вере было не единичным в то время: идейное развитие таких сен-симонистов, как Э. Бюше и П. Леру, являлось наглядным тому подтверждением. Автор монографии о Чаадаеве А.А.Лебедев отмечает, что «тот же, что и Печерин, в принципе путь прошел, приходя к католицизму, и Чаадаев. Но для последнего католицизм представлялся не формой отречения от своих былых воззрений, а своеобразным развитием их».
Весьма символично, что в то же самое время как Печерин, разорвав прежние революционно-демократические связи, перечеркнув былые мечты и надежды, «кинулся вниз головою в бездонную пропасть» католицизма, в жизни Чижова также произошел крутой поворот. Еще два года назад, отказываясь от предложения Печерина основать в Америке русскую колонию, Чижов писал о своем завидном положении в Петербургском университете, об удовлетворении, получаемом от научной работы: «… по убеждению моему нигде я не буду поставлен так на своем месте, как здесь. Занимаясь с любовью наукой в моем кабинете, я хожу в университет только как бы для отдыха — дружески беседовать со студентами о том, что я делаю, и передавать им плоды трудов моим. Сыщите, если можете, положение, которое было бы лучше моего».
Однако в 1840 году замкнутость избранного Чижовым поприща ученого-математика перестает удовлетворять пробудившемуся в нем стремлению к общественной значимости. Интересы его начали направляться в другую сторону — к занятиям словесностью, историей, науками философскими и политическими. «Дело литератора всего ближе ко мне, — решает он, — я чувствую… тайное желание играть роль, иметь значение». Он пытается писать стихи, работает над повестями, психологическим романом, помещает в различных журналах и газетах рецензии, научно-популярные обзоры, переводы статей и книг из области математики, механики, литературы, эстетики, морали, сближается с литературно-художественным миром Петербурга (М. И. Глинкой, Н. В. Кукольником, Ф. И. Толстым). Постепенно главным его увлечением становится история изобразительного искусства, в изучении которой ему виделся «один из самых… прямых путей к изучению истории человечества». Осенью 1840 года Чижов оставляет преподавательскую деятельность и с целью сбора материалов для искусствоведческого исследования уезжает за границу.
Путешествуя по странам Западной Европы, Чижов долгое время жил в Италии, где коротко сошелся с Н. В. Гоголем, которого знал еще по Петербургскому университету, и Н. М. Языковым, примкнул на правах знатока и тонкого ценителя искусства к колонии русских художников, работавших в это время в Италии (среди них были живописцы А. А. Иванов, И. К. Айвазовский, Ф. А. Бруни, А. В. Сомов, Ф. А. Моллер, В. А. Серебряков, скульпторы Н. С. Пименов, Н. А. Рамазанов, П. А. Ставассер, архитекторы К. А. Тон, Н. Л. Бенуа, И. А. Монигетти), продолжал свои искусствоведческие занятия и даже пытался рисовать сам.
В 1841, 1842 и 1844 годах Чижов трижды посетил «новообращенного» друга в Голландии, в монастыре города Виттема. Печерин выглядел умиротворенным и по-своему счастливым, еще не постигнув, по словам Чижова, «горького яда монашества и католицизма». В исполнении строгой регламентации, предписанной монахам-редемптористам, Печерин, казалось, находил пищу уязвленному самолюбию. Он упрекал Чижова и остальных друзей из петербургской «пятницы» за то, что они в свое время потворствовали его гордыне, внушали слишком высокое мнение о его дарованиях.
Чижов резко осуждал вероотступничество Печерина, произошедшее вследствие отрицания России, как заключительный момент этого отрицания. Он припоминал строчки из поэтических произведений друга: «Как сладостно — отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья!»; «До тла сожгу ваш… храм двуглавый и буду Герострат, но с большей славой…» В них за кощунственной патетикой и авторским самолюбованием оказалось сокрыто пророчество всей дальнейшей трагедии первого русского политического «невозвращенца-диссидента».
Чижов пытался раскрыть Печерину глаза на те сети, которыми опутало его «латинство», убеждал, что монахам он полезен своей ученостью, обширными лингвистическими познаниями.
В отношении к основам христианского вероучения у Печерина и Чижова было полное единодушие; но когда разговор касался направлений христианства, он принимал характер спора. Чижов отстаивал соборный, религиозно-коллективный характер православного вероисповедания с его «первозданной чистотой и невмешательством в дела светской власти». Печерин же делал акцент на демократизме «обновленного католицизма», протягивающего руку науке, требующего свободы слова, совести, ассоциаций. Он был убежден, что посредством преобразования католической церкви во всемирный демократический союз человечество осуществит на земле чаемое веками царство счастья и справедливости: «Верь мне, друг, в звуках оргáна, сопровождаемых церковным песнопением, в дыме ладана, поднимающемся к небу сквозь солнечный луч, в любой иконе Богоматери — больше истины, больше философии и поэзии, чем во всем этом хламе политических, философских и литературных систем, которые меняются ежедневно, как картинки мод, и которые все неизменно в конце концов становятся смешными. История последних десяти лет дала нам важные и благотворные уроки… Мы стоим на пороге великого переворота в общественном мнении… Да, близится час, когда Церковь встанет победно над обломками мнимых философских систем».
В 1843 году Чижов, совершая путешествие по славянским землям Австрийской империи, неожиданно для себя увлекся славянским национально-освободительным движением, сблизился с его вождями и стал развивать идеи об особой миссии славянства в обновлении дряхлеющего Запада, о роли Православной Церкви как краеугольного камня будущего единения славянских племен. «Тут входили и понятия о конституции, о республике», и он, «давши себе полную волю, на несколько времени сделался больше славянином, без роду, без племени, чем русским».
Чижов попытался поверить другу свои новые, сокровенные мысли, захватившие его целиком. Но Печерин не разделил его восторга. Возведение на пьедестал славянских племен и поклонение им Печерин расценил как очередное заблуждение, которое лишь на время может увлечь, но в конце концов разоблачит себя и пройдет, как проходит все в этом мире: «Истина одна и очень стара. Она не является принадлежностью какой-либо национальности. Нельзя изобретать новую религию, основанную на новой национальности… Истина — это Церковь.»
Итак, Чижов понял, что переубедить Печерина, склонить его «в свою веру» не удастся: как говорится, нашла коса на камень. Обиженный в своих лучших намерениях, он уехал из Виттема с твердой решимостью окончательно порвать с Печериным всяческие отношения…
Редемптористская карьера Печерина складывалась весьма успешно: в 1843 году в Льеже он был рукоположен в священники, в 1843—1844 годах состоял профессором красноречия в миссионерской школе виттемского монастыря, был переведен в Фальмут, в Англию, спустя четыре года — во вновь основанный монастырь Сент-Мери Чапель в Клапаме близ Лондона.
Связь с Чижовым прервалась. Ничто не тянуло на родину. Казалось, он всецело отдался во власть религиозных переживаний: «… я как будто напился воды из реки забвения: ни малейшего воспоминания о прошедшем, ни малейшей мысли о России». Печерина даже нимало не взволновала доставленная к нему в монастырь в 1848 году из русского посольства бумага, извещавшая о постановлении Сената лишить его всех прав состояния и счесть навсегда изгнанным из отечества за самовольное оставление России и за отступление от православного вероисповедания.
Переписка с Чижовым возобновилась лишь в 1865 году, когда Печерин наконец пробудился после двадцатилетнего монастырского забвения («я проспал 20 лучших лет моей жизни») и стал пристально всматриваться в события, происходившие в России: «19-ое февраля, освободившее 20 миллионов крестьян, и меня эмансипировало!»
Но путь к его духовному возвращению на родину начался раньше, со времени приезда в клапамский монастырь Герцена, — с 1853 года. Герцен, до этого лично не знакомый с Печериным, но много наслышанный о нем от Редкина, Крюкова, Грановского, приехал к нему в Сент-Мери Чапель с тем, чтобы просить разрешения напечатать в «Вольной русской типографии» трагедию «Вальдемар» и поэму «Торжество смерти», впервые прочитанные им еще в бытность в Петербурге, в 1840 — 1841 годах. Получив уклончивый ответ, Герцен все же опубликовал их в 1861 году дважды: на страницах «Полярной звезды» и в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия», а впечатлениям от свидания с Печериным посвятил главу в «Былом и думах» с приложением последовавшей за встречей переписки. В своей неоконченной повести «Долг прежде всего» Герцен воссоздал трагическую судьбу Печерина в образе Анатоля Столыгина. «Протестантов, идущих в католицизм, я считаю сумасшедшими… но в русских камнем не брошу, — они могут с отчаяния идти в католицизм, пока в России не начнется новая эпоха», — писал он. И хотя дальнейшие отношения между двумя соотечественниками-эмигрантами: революционером-демократом и католиком-прозелитом, — не сложились (Герцен отшатнулся от резко полемизировавшего с ним убежденного «попа-иезуита», а Печерина, в свою очередь, испугала материальность герценовского социализма, умалчивавшего, как ему казалось, о душе и ставившего целью лишь «всеобщую сытость»), все же для Печерина знакомство с Герценом и его статьями «Русский народ и социализм» и «О развитии революционных идей в России» послужило толчком к разрыву с монастырем и орденом и обратило его взор на восток, в Россию.
В конце 1850 — начале 1860-х годов имя Печерина неожиданно для него самого привлекает внимание представителей различных противоборствующих между собой общественно-политических сил.
В условиях кризиса политического авторитета Ватикана на фоне центростремительных тенденций в итальянских и германских княжествах ближайшее окружение папского престола предложило Печерину — блестящему оратору, проповеди которого пользовались огромным успехом, а имя приобретало все большую известность в католическом мире, — фактически стать во главе русского католического движения, посулив ему при этом посмертную канонизацию: папе Пию IX представлялось возможным удержать в своих руках светскую власть при помощи России — оплота консерватизма — путем обращения в католицизм представителей высших кругов русского общества, проживавших на Западе. Однако Печерин отказался стать слепым орудием в руках ватиканской дипломатии, снял носимое в течение 20 лет монашеское облачение и ушел от активной миссионерской деятельности, затворившись простым католическим священником в дублинской больнице, «разделяя труды сестер милосердия и вместе с ними служа страждущему человечеству». Круто повернуть (в который раз!) жизнь и полностью порвать с католическим миром у него не хватило ни мужества, ни сил.
Желая быть в курсе перемен, происходивших в России, Печерин становится подписчиком герценовского «Колокола»: «Я снова сблизился с русским миром в 1862, когда начал читать «Колокол», — писал он впоследствии Чижову. Именно к Герцену потянулся снова Печерин, несмотря на непримиримость расхождений, лежавших между ними: «Я чувствую, что между нами пропасть, и, однако, через эту пропасть я протягиваю вам руку соотечественника и друга… нет ли возможности для нас соединиться в более высоком единстве — там, где прекращаются споры и где царит одна лишь любовь?»
На призыв Печерина откликнулся Огарев; желанию Печерина «вернуться в народ русский» он поверил безоговорочно. «Ваше место среди людей «Земли и воли», — уверял Огарев Печерина и при этом указывал на Литву как на возможную для него в качестве католического священника арену революционной деятельности. Но Печерин предложения не принял; свое «возвращение в русский народ» он понимал отнюдь не в буквальном, действенном смысле. Жизненные катаклизмы сделали из когда-то восторженного радикала — скептика: «…после стольких опытов мне очень трудно решиться на какую-либо новую деятельность. Я чрезвычайно дорожу моим теперешним положением: я живу в совершенном уединении и совершенной независимости».
Спустя четыре с небольшим месяца, в августе 1863 года, на страницах «Московских ведомостей» разгорелась полемика между М. Н. Катковым и М. П. Погодиным, до которых дошли слухи о разрыве Печерина с католическим монастырем: они всерьез обсуждали вопрос о возможном благотворном прорусском влиянии Печерина на польское католическое духовенство в восстании 1863 года. Негодующий ответ Печерина был опубликован в брюссельском «Листке» князя Петра Долгорукова: «Издатель «Московских ведомостей"[3] желает какой-то свободы совести в пользу русского правительства, то есть ему хочется найти католических священников, преданных русскому самодержавию! Едва ли где он их найдет… Я живо сочувствую геройским подвигам и страданиям католического духовенства в Польше: если б я был на их месте, я бы действовал, как они действуют… Я никогда не думал, что католическая религия, в какой бы то ни было стране, должна служить опорой самодержавию и помогать Нерону казнить строптивых христиан… Если вследствие какого-нибудь переворота врата отечества отверзнутся передо мною — я заблаговременно объявлю, что присоединяюсь не к старой России, а к молодой, и теперь с пламенным участием простираю руку братства к молодому поколению, к любезному русскому юношеству, и хотел бы обнять их во имя свободы совести и Земского Собора!»
Интерес к переменам, происходившим в России в период общественного обновления, требовал информации «из первых рук». Таковыми для Печерина могли стать свидетельства его прежних друзей. Случайно увиденные на страницах славянофильской газеты «День» корреспонденции Чижова заставили Печерина в августе 1865 года прислать в редакцию «Дня» письмо, к которому была приложена длинная стихотворная исповедь «блудного сына России». «Милостивый государь, — обращался к Ивану Сергеевичу Аксакову, редактору «Дня», Печерин. — Благородный дух вашего журнала давно привлекает мое внимание… Сверх того, там часто встречается дорогое для меня имя Ф. В. Чижова… Я сам не могу себе объяснить, для чего я посылаю вам эти стихи. Это какое-то темное чувство или просто желание переслать на родину хоть один мимолетный умирающий звук…»
Аксаков понял смысл письма по-своему, как желание Печерина возвратиться в Россию: «Он наш, наш, наш! — убеждал Аксаков читателей в своем редакторском предисловии к публикации письма. — Неужели нет для него возврата? Ужели поздно, поздно?.. Русь простит заблуждения, которых повод так чист и возвышен, она оценит страстную, бескорыстную жажду истины, она с любовью раскроет и примет в объятия своего заблудшего сына!»
Но не этого искал Печерин. Ему хотелось, не меняя на склоне лет привычного для него уклада жизни, получить возможность общаться с другом-соотечественником, с которым его связывали общие юношеские воспоминания, который сам был свидетелем его несложившейся жизни и в какой-то степени принимал в ней участие. С ним он собирался обсудить волновавшие его вопросы общественной и политической жизни России и тем самым создать для себя иллюзию участия в новых процессах, происходивших на родине.
Еще до того, как послание из Дублина было опубликовано в газете «День», Чижов познакомился с ним в редакции и откликнулся незамедлительно. Завязалась переписка, которая в течение последующих двенадцати лет утоляла ностальгическую тоску Печерина и постепенно становилась в его дублинском уединении главным жизненным интересом. Это был разговор двух собеседников о насущных проблемах России и событиях в мире в целом. «Письмо твое для меня важнее всех газет, — признавался Печерин Чижову, — оно показывает настоящее настроение умов в России…»
Как же сложилась жизнь Чижова в конце 1850-х-1870-е годы? Со времени последнего свидания с другом в 1844 году он через посредство Н. М. Языкова сблизился с московскими славянофилами и развернул активную подготовительную деятельность по изданию первого славянофильского печатного органа «Русский вестник». В мае 1847 года, возвращаясь в Россию из очередной поездки по славянским землям, он был арестован на границе по подозрению в принадлежности к раскрытому тайному Кирилло-Мефодиевскому обществу, ставившему целью создание конфедеративного союза всех славян на демократических началах наподобие Северо-Американских Штатов, был продержан в течение двух недель в III отделении и затем сослан в Киевскую губернию.
С конца 50-х годов, получив разрешение жить в обеих столицах, Чижов оказался в центре группы московских промышленников, купцов и финансистов, заинтересованных в широком развитии национальной промышленности, в резком уменьшении влияния иностранного капитала. По словам Никитенко, он превратился в «совершенно промышленного человека». В издаваемых Чижовым журнале «Вестник промышленности», газете «Акционер», в редактируемых экономических отделах славянофильских газет «День», «Москва», «Москвич» он выступал как теоретик протекционистского торгово-промышленного развития России.
Ратуя за связь теории с практикой, Чижов подкреплял свои теоретико-публицистические выступления деятельностью практической. Как и большинство представителей пореформенного славянофильства, он стоял у истоков акционерного промышленного и финансового учредительства, однако ни у кого из славянофилов предпринимательская активность не достигала такого размаха, как у Чижова.
Прежде всего, решив вырвать русские железные дороги из рук иностранцев и на средства отечественных капиталистов наладить их быстрое строительство с главным железнодорожным узлам в Москве, Чижов разработал план строительства Московско-Троицкой железной дороги, первой железной дороги, построенной русским акционерным обществом (в дальнейшем он продлил ее от Сергиева Посада через Ярославль к Вологде). Чижов придумал хитроумную комбинацию, при помощи которой группа московских промышленников и торговцев выкупила у правительства Московско-Курскую железную дорогу, не допустив тем самым ее передачи в собственность иностранных компаний. Денежные затруднения московских предпринимателей при покупке железных дорог навели Чижова на мысль о создании банков, которые предоставляли бы дешевый частный кредит. Он организовал Московский купеческий банк, а также Московское купеческое общество взаимного кредита, тем самым заложив, по словам И. С. Аксакова, «прочный фундамент частному банковскому кредиту в Москве и, можно сказать, во всей России». С целью оживления русского северного края он организовал Архангельско-Мурманское срочное пароходство по Белому морю и Северному Ледовитому океану. С неослабевающим вниманием и сочувствием продолжал следить Чижов за национально-освободительной борьбой славянских народов на Балканском полуострове: деятельно участвовал в работе Московского славянского благотворительного комитета, организовывал сбор средств для снаряжения роты добровольцев генерала Черняева в Черногорию, на помощь восставшим герцеговинцам.
Переписка Печерина и Чижова в 1860-е — 1870-е годы, хранящаяся в Рукописном отделе Российской государственной библиотеки в Москве и в Пушкинском доме в Петербурге, читается как захватывающий документ эпохи. В почти не пожелтевших от времени, исписанных мелким почерком разноцветных листках тончайшей почтовой бумаги оказались запечатленными образы и характеры этих двух столь непохожих людей, со своими пристрастиями, вкусами, взглядами, убеждениями. Невероятно, но, несмотря на порой непримиримые, принципиальные идейные разногласия, Печерин и Чижов тянулись друг к другу, были друг другу необходимы.
Отношение Печерина к славянофильским убеждениям Чижова выразительно раскрывается в одном из его первых писем к вновь объявившемуся другу. Печерин решительно отмел очередную попытку Чижова обратить его в свою веру: «Я чрезвычайно уважаю твой патриотизм, но, признаюсь, никак не могу следовать за тобою в твоем идолопоклонстве русскому народу… Хотите ли, не хотите ли, а Россия пойдет своим путем, то есть путем всемирного человеческого развития. Вы говорите, что здесь на Западе все мишура, а у вас одно чистое золото. Да где же оно? скажите пожалуйста! В высшей ли администрации? в неподкупности ли судей? в добродетелях семейной жизни? в трезвости и грамотности народа? в науке? в искусстве? в промышленности?.. А! понимаю: это золото кроется где-то в темных рудниках допетровской России… Нет! господа, мы за вами не попятимся в средние века. Нет, нет! Я вечно останусь пантеистом! Мне надобно жить всемирною жизнью… я всех людей обнимаю как братьев, но ни за каким народом не признаю исключительного права называть себя сынами Божьими. Заключить себя в каком-нибудь уголку Белокаменной и проводить жизнь в восторженном созерцании каких-то доселе еще не открытых тайных прелестей древней Руси — это вовсе не по мне! Я скажу с Шиллером: «Столетие еще не созрело для моего идеала. Я живу согражданином будущих племен».
Как вспоминал Чижов впоследствии, критику Печериным славянофилов и их учения он счел тогда недостаточно компетентной: «Ты ровно ничего об них не знал, а привыкши схватывать… из двух-трех на лету попавшихся суждений… заклеймил их… и черт знает что возвел на них — я… признаться, не принял труда разуверять тебя».
Будучи в зрелые годы сторонником постепенного, путем реформ изменения существующего политического строя России при сохранении его исторических основ, Чижов продолжал, как и в юности, критически относиться к царствующей династии Романовых, считая ее онемеченной: «…немецкая семья два века безобразничает над народом, а народ все терпит», — записал он однажды в своем дневнике. В послании из Венеции в 1872 году Чижов просил Печерина: «В письмах ко мне в Россию… не спрашивай меня только о Царе и Царевичах, — бранить их не позволяется, а хвалить особенно не за что». Тем не менее Чижов с удовлетворением приветствовал реформы Александра II: «Россия ожила, все зашевелилось», «русская мысль… вышла из оков немого подчинения авторитету»; «Теперь, слава Богу, народ весь, во всей его сплошной массе, вздохнул посвободнее и мало-помалу стали отваливаться струпья. Разумеется, мы не обновились, не очистились вполне: крепостное право, бессудие, деспотизм, произвол являются беспрестанно, но видна синева неба хоть кусочками»; «Потомки наши далеко больше нас превознесут и возблагодарят Александра II за то, что он дал нам».
В ответ Печерин призывал Чижова не обольщаться реформами Александра II: «Припомни-ка еще царствование Александра I: оно началось ужасно как либерально, а кончилось оно чем? Аракчеевым»; «Мы вечно вертимся в роковом круге».
Показательно, что в годы возобновления дружеских связей с Чижовым у Печерина решительным образом меняется отношение к ценностям материальной цивилизации, в частности, он становится сторонником расширения реального, технического образования в России. Еще в 1853 году в письме к Герцену Печерин с ужасом рисовал апокалипсическую картину торжества всевластия материи: «Химия, механика, технология, пар, электричество… Если эта наука восторжествует, горе нам!.. она сглаживает горы, вырывает каналы, прокладывает железные дороги… Как некогда христиан влекли на амфитеатры, чтобы их отдать на посмеяние толпы, жадной до зрелищ, так повлекут теперь нас, людей молчания и молитвы, на публичные торжища и спросят: «Зачем вы бежите от нашего общества?.. рай здесь на земле — будем есть и пить, ведь мы завтра умрем!"… Где же найти убежище от тиранства материи, которая больше и больше овладевает всем?»
Однако увлеченные, полные энтузиазма рассказы Чижова о своей промышленной деятельности, об экономическом подъеме в пореформенной России примирили Печерина с духом времени, заставили признать ценности материальной цивилизации. Он искренне радовался успехам друга: «Признаюсь, от твоих проектов и планов у меня дух захватывает»; «меня восхищает твоя деятельность»; «Железные дороги — существенная потребность России. Это артерии для ее кровообращения». По сравнению с конкретными, зримыми результатами деятельности Чижова Печерин сознавал свою практическую ненужность и бесполезность: «Мог ли я когда-либо вообразить, что буду коротким приятелем человека, измеряющего океаны, двигающего пароходами как пешками, заказывающего рельсы в Англии»; «Я… не без зависти смотрю на твою деятельность: ты посвятил всю жизнь, в некотором смысле пожертвовал жизнию для общего блага — я говорю для общего блага, потому что никак не могу придумать, какой бы у тебя мог быть интерес в твоих предприятиях: ты одинок, без семейства, твои личные нужды очень ограничены, след<овательно>, все, что ты приобретешь, пойдет просто на Россию, и ты будешь жить в памяти благодарного потомства»; «ты очевидно положительно содействуешь возрождению России»; «Не странно ли тебе кажется иметь дело с таким как я бесплодным мечтателем? Но, может быть, в этом и заключается тайна нашей дружбы: это два полюса магнита…»
В 70-е годы бывший ярый враг реализма и естествознания, образно названный Чижовым «генералом от классицизма» за его обширные познания в области древних языков и литератур, становится противником классического образования: «Поэзия — риторика — чепуха!» — приписывает он к отправляемым Чижову трем отрывкам из своего дневника 1854 года «Mémoire d’un fou"[4]. Весь интерес Печерина переключается на изучение естественных наук: «Я теперь почти исключительно занимаюсь естественными науками, физиологиею и ботаникою»; «Мне кажется, что мы скоро всю метафизику пошлем к черту! Истинная суть вещей находится в химии. Дальше идти нельзя. Все прочее — бред!»
Печерин признавался, что его «исследования разных явлений электричества и химических разложений» достигли степени помешательства и что он со временем надеется оборудовать порядочный физический кабинет. Не ограничиваясь домашними опытами, он посещал лабораторные занятия студентов: «На старости — говорят — люди впадают во второе младенчество; я впал не в младенчество, а в студенчество».
В одном из писем 1871 года Чижов сообщил Печерину о реформе среднего образования в России, вызвавшей недовольство либеральных кругов. «Последнее время, — писал он, — вся наша газетная деятельность была сосредоточена на страшнейшем споре между людьми, защищающими классическое воспитание, и другими — реальное. Министр просвещения граф Толстой… представил преобразование гимназий, по которому ученики только классических могут поступать в университеты, а из реальных — нет… Почему-то… в правительственных слоях укоренилась мысль, что реальное воспитание ведет прямо… к нигилизму; что классицизм есть опора консерватизма, и вот приспешники Двора, мимоходом будь сказано, весьма мало знакомые с древними языками, ратуют за классицизм, а газета Каткова, закусивши удила, лезет вон…»
Желая видеть в России собственные кадры технической интеллигенции и квалифицированных рабочих, Чижов всемерно поощрял учреждение новых ремесленных и технических училищ. Он содержал нескольких стипендиатов, оплачивал поездки молодых специалистов в страны Западной Европы для ознакомления с постановкой дел на промышленных предприятиях и железнодорожном транспорте, был инициатором учреждения в Москве на средства членов акционерных железнодорожных обществ железнодорожного училища имени А. И. Дельвига, по его проекту и плану в Киеве была открыта «Коллегия Павла Галагана», в течение долго времени остававшаяся одним из лучших учебных заведений в России; весь свой основной капитал в акциях Курской железной дороги, составивший по их реализации в 1891 году 6 миллионов рублей, он завещал на устройство и содержание пяти профессионально-технических учебных заведений на своей родине, в Костромской губернии.
Чижов принял непосредственное участие в разгоревшейся на страницах печати полемике. Он опубликовал в «Русском архиве» ответ Печерина со своим предисловием, в котором представил читателю своего друга-филолога как беспристрастного судью в споре классицистов и реалистов. «Ты очень метко назвал себя аскетом труда, в этих словах заключается вся суть современного мира, да этим же разрешается вопрос между классиками и реалистами. От классицизма все как-то пахнет монастырем, душною кельею, книжным учением, словопрением, а от реализма веет свежий утренний ветерок пробуждающейся жизни».
На рубеже 60-х — 70-х годов религиозные взгляды Печерина эволюционировали от веры в возможность союза демократии и католицизма через «отсутствие всякого сочувствия к светской власти папы» к веротерпимости. «Кажется, уж столетие прошло, так изменились мои воззрения», — писал он Чижову. Продолжая оставаться католическим священником, Печерин вступал в глубочайший внутренний конфликт со своими убеждениями: «Я нахожусь в положении мнимоумершего… Я связан по рукам и ногам железною цепью необходимости… Все мои мысли, все сочувствия на противоположном берегу с передовыми людьми обоих полушарий, а в действительной жизни я остаюсь по сю сторону* с живым сознанием, что принадлежу к ненавистной касте тех людей, коих еще древние римляне называли inimici generis humani[5]».
Во время посещения Дублина в 1872 году Чижов пытался получить от Печерина объяснения в необходимости подобной раздвоенности: «В защите его будет хоть частица истины, а я, признаюсь, ничего не вижу, кроме лжи». В письме, посланном вскоре после встречи, он писал: «… монашество и священство оставили на тебе резкий отпечаток. Твоя уклончивость, как будто постоянное снисхождение, — говорит же Герцен, что и на Ламенне осталась печать того, что он был аббатом, — все это как-то очень сковывало меня в твоем присутствии… О многом я не решился говорить с тобою. Например, я не решился спросить тебя: почему ты считаешь как бы невозможным расстаться с католическим священством, когда в нем видишь источник зла в настоящее время. Вообще как-то ты был так уклончив, что я боялся оскорбить тебя малейшей нескромностью вопроса». Предвидя ответ Печерина, Чижов записал в своем дневнике: «Необходимость получать средства к жизни. Но какая же это независимость — жить наперекор самым задушевным убеждениям?..»
Беседы с Чижовым, в практической деловитости которого Печерину виделись радужные перспективы будущего экономического развития России, цементировали сформировавшийся у него в последние годы буржуазный либерализм. В житейской расчетливости английских буржуа, в прогрессистском консерватизме общественно-политического уклада Англии он стал находить противовес былым своим революционно-романтическим фантазиям. Отныне царство разума и свободы для него воплощала страна «туманного Альбиона», в то время как Франция стала синонимом мальчишеского безрассудства: то, что англичанин спокойно обсудит в Гайд-парке, француза, лишенного государственной мудрости, приведет на баррикады.
Расценивая идею социализма как отвлеченную политическую фразу, Печерин полагал, что ее распространение в среде русской молодежи есть результат тлетворного влияния французов. Он спрашивал Чижова: «… не можешь ли ты каким-нибудь образом убедить наших молодых соотечественников позаняться чем-нибудь практически полезным, хоть, напр<имер>, железными дорогами, вместо тех идеальных планов преобразования общества, которыми они так усердно занимаются?» В качестве доказательства исконной нереволюционности русского народа Печерин приводил фразу, брошенную его крепостным слугой Никифором Шиповым, который, будучи со своим молодым барином в декабре 1825 года в Петербурге, заявил на следующий день после восстания офицеров на Сенатской площади: «Это все дворяне с жиру бесятся». — «Вот истый глас народа!» — восторженно восклицал Печерин. Ему вторил Чижов рассказом о революционной демонстрации на площади перед Казанским собором, состоявшейся в мае 1871 года: «… человек 50 провозгласили: земля и воля! и даже всунули… знамя с этой надписью в руки крестьянскому мальчишке. Ну прямо революция! А… этих безбородых революционеров перехватал народ даже до появления полиции…»
Но порой у Печерина неожиданно проскальзывают былые революционные симпатии, заглушая на время его новейший либеральный скептицизм. В письме, датированном 18 июля 1871 года, Чижов сообщал Печерину о нашумевшем в России «Нечаевском процессе» и саркастически обращал внимание друга на несоответствие между огромными политическими претензиями организации и ее незначительными материальными ресурсами и численным составом. Печерин откликнулся на это сообщение с живейшим интересом: «Нечаевское дело — очень важное и утешительное в русском быту. Пришли, пожалуйста, весь процесс, когда он будет напечатан. Я от всей души сочувствую этим бедным молодым людям; но…» — и тут просыпается уснувший на время «здравый смысл», — «все ж таки, должен сказать, что предприятие их не имеет никакого разумного основания: это тот же фанатизм — только в другом виде… слепая вера в слова пророка, обещающего земной рай… Все это одни фразы: человечество! прогресс! А Чижов без фраз строит железные дороги и своими паровиками действительно подвигает человечество вперед гораздо быстрее, чем все эти воздушные шары метафизики и риторики».
И позднее, отвечая Чижову на его сетования в отношении молодого поколения, Печерин возражает с вызовом, звучащим по сравнению с другими его обычными высказываниями последних лет парадоксально: «Ты говоришь, что не можешь дружно сойтись с новым поколением, — а я, напротив, сгораю желанием познакомиться с… ультрамолодой Россией, со всеми этими нигилистами и нигилистками, студентками медицины, — послушать их толков». Высказав свою симпатию к девушке, которая стреляла в князя Горчакова, он экзальтированно восклицает: «Вероятно, она постоянно носит револьвер за своим девичьим поясом! Каковы русские дамы! Настоящие спартанки! Признаюсь, тут есть богатые материалы для революции». Но подобные редкие, в духе революционного романтизма, высказывания в целом подавлялись скептическим отношением к социально-освободительному движению России, которое воспринималось Печериным через призму воспоминаний о его собственных заблуждениях, произросших на почве французских утопических идей.
В переписке Печерина и Чижова отразились их различные оценки французско-прусской войны 1870−1871 годов. В первых же неудачах французской армии Печерин увидел подтверждение своим пророчествам о неизбежной гибели Франции, увязнувшей в «завиральных идеях 1789 года»: «Германо-славянским племенам суждено в будущем владычество мира, а так называемые латинские народы обречены на неминуемую погибель!»
Чижов опротестовал безапелляционный приговор Печерина по двум причинам; во-первых, он был решительным противником германофильства, отстаивая мировое культурно-историческое значение Франции; во-вторых, славянофильские убеждения Чижова не могли допустить смешения молодой славянской культуры с имеющей давнюю историю и, следовательно, бесперспективной в творческом плане германской.
Еще в разгар франко-прусской войны Чижов в письме к Печерину указал на новый очаг военных действий — Балканы, где в скором времени должны были столкнуться интересы европейских держав. Предсказав расстановку сил в середине 70-х годов, Чижов всю вину за сложившуюся ситуацию в этой части Османской империи целиком возложил на английскую дипломатию; Россия же, по его глубокому убеждению, не преследовала задач территориального расширения, а руководствовалась лишь выполнением исторического долга перед единоплеменниками. У Чижова вызывало полное неприятие англоманство Печерина: все старания последнего убедить его «смягчить суровый взгляд на Англию» побуждали лишь усиливать критику Англии, а самого Печерина иронически называть «европейским умником», «великим мудрецом многомудрой Европы».
Печерин, со своей стороны, скептически воспринимал уверения Чижова в альтруизме внешней политики России, видя в ее активности на Балканах имеющую многовековую историю политическую игру: «Ты говори, что хочешь, а я стою на своем. Я знаю, я уверен, что у русского народа испокон веку есть одна заветная, задушевная мысль — пойти на Царьград и водрузить крест на куполе Св. Софии. Это согласно со всеми нашими преданиями, с тех пор как Олег прибил свой щит к стенам Царьграда. Народы живут не выводами чистого разума, но страстными стремлениями, роковыми увлечениями, которых никакая дипломатия ни предвидеть, ни остановить не может…»
Ответ Печерина Чижов расценил как издевательство над русским патриотизмом и рассердился не на шутку: «Можно не разделять их русских убеждений, но глумиться над людьми, жертвующими жизнью и сознательно идущими на смерть, — вам высокоумным отчего и не поглумиться, присевши за угол своей эгоистической жизни… Для тебя, разумеется, парламентское решение — верх мудрости, человечности и образования; мы смеем смотреть иначе: для нас эта подлая торговая политика — мерзость античеловеческая…»
В начавшейся русско-турецкой войне 1877−1878 годов Печерин продолжал усматривать захватнические планы «усачей, гремящих саблями и шпорами на берегу Дуная», мечтающих «схватить за золотой рог Босфорского быка» и «наделить славянские племена несчетными благами русской администрации, столь выгодно известной у себя дома»: «Чай Аксаков… ликует: теперь на его улице праздник. Заварили вы кашу», — язвительно писал он Чижову.
В свою очередь, Чижов возмущался пропагандистской кампанией английской прессы, пытавшейся уверить мировое общественное мнение в агрессивности русских. Он настойчиво продолжал убеждать Печерина в искренней, не преследующей никаких территориальных выгод помощи соотечественников братьям-славянам, описывал полное единодушие, царящее во всех слоях русского общества: «Не говори, брат, «чай Аксаков ликует», — ликуем мы все… мы изныли в нерешительности… Эта война пользуется у нас такой популярностью, какой едва ли пользовалась война 1812 года»; «на нашем веку не было такого воодушевления, каким проникнуты все сословия»; «разумеется… приписывают все нам, славянофилам, и нашему подстреканию… Спасибо им за такую честь. Дело в том, что славянофилы теперь не имеют своего органа, а народ сам стал славянофилом». Главную же причину войны Чижов в противоположность Печерину сводил к интригам англичан: «… если бы не вмешательство Англии, очень может быть, что не было бы и настоящей войны…»
Говоря о взаимоотношениях Печерина и Чижова, нельзя обойти молчанием роль Чижова в стимулировании мемуарных занятий друга. Пересылая вначале свои воспоминания трем адресатам: племяннику С. Ф. Пояркову, Никитенко и Чижову, — Печерин постепенно все свои надежды на публикацию записок стал возлагать исключительно на последнего: «Я исполняю твою просьбу и буду писать — но писать наобум, то, что в голову взойдет… а ты после, как мудрый Лизистрат, соберешь эти гомерические рапсодии и соединишь их в одно целое…» О значении, которое Печерин придавал своим мемуарам, говорят выдержки из его писем к Чижову: «… мне непременно надобно оправдаться перед Россиею»; «Это некоторого рода духовное завещание — это «Apologia pro vita mea» — моя защита перед Россией, особенно перед новым поколением»; «Хорошо тебе: ты живешь одною нераздельною жизнью, то есть русскою жизнью. А у меня необходимо две жизни: одна здесь, а другая в России. От России я никак отделаться не могу. Я принадлежу ей самой сущностью моего бытия, я принадлежу ей моим человеческим значением. Вот уже 30 лет как я здесь <в Англии> обжился — а все ж таки я здесь чужой… Я нимало не забочусь о том, будет ли кто-нибудь помнить меня здесь, когда я умру; но Россия — другое дело… как бы мне хотелось оставить по себе хоть какую-нибудь память на земле русской — хоть одну печатную страницу… Ты оставишь по себе… железные дороги и беломорское плавание, а мне нечего завещать, кроме мечтаний, дум и слов».
Чижов пытался опубликовать воспоминания Печерина в русской периодике, чтобы с их помощью преподать урок патриотизма молодому поколению («Я уверен, что он не может сделать ничего лучшего для России, как написать свою автобиографию», — утверждал в одном из писем к Ивану Сергеевичу Аксакову Чижов), но из-за сопротивления цензуры в журнале «Русский архив» ему удалось напечатать лишь два письма Печерина и один мемуарный отрывок. «Цензура стала очень строга к тому, что предварительно проходит сквозь ее железные когти», — сообщал Печерину Чижов.
Печерин был крайне огорчен и разочарован: «Я теперь адресую свои записки прямо на имя потомства… Через каких-нибудь пятьдесят лет… будет только темное предание, что, дескать, в старые годы жил-был на Руси какой-то чудак Владимир Сергеев сын Печерин: он очертя голову убежал из России, странствовал по Европе и наконец оселся на одном из британских островов, где и умер в маститой старости. А память о нем сохранил еще больший чудак Федор Васильевич Чижов, питавший к нему неизменную дружбу в продолжение сорока с лишком лет…»
После смерти Чижова его архив вместе с рукописями Печерина, так и не увидевшими свет, был передан в Румянцевский музей и согласно завещанию был вскрыт только через сорок лет. По странному совпадению этот срок настал в ноябре 1917 года.
Уже в советское время, в 1932 году, воспоминания Печерина в усеченном виде были изданы отдельной книгой с предисловием и под редакцией большевика Л. Б. Каменева, который предпослал им название «Замогильные записки», заимствованное у Шатобриана, — так озаглавил сам Владимир Сергеевич один из своих мемуарных очерков.
Печерин пережил Чижова на восемь лет. До конца своих дней он продолжал служить капелланом в дублинской больнице «Mater Misericordiae» и умер в небольшом домике на Доминик-стрит, 47, где квартировал последние годы. Сестры милосердия установили на его могиле, на старинном кладбище Гласневин мемориальную плиту, сохранившуюся и поныне. Однако останков Печерина под ней нет — его прах в 1991 году был перенесен на новое дублинское кладбище Динсгрейдж, где на одной из залитых бетоном аллей находят свое последнее пристанище современные ирландские редемптористы. Тем самым уже после своей смерти Печерин был «прощен» и вновь инкорпорирован в самовольно оставленное им самим когда-то суровое религиозное братство.
Могила Чижова в итоге оказалась и вовсе утерянной. В 1877 году Федор Васильевич был торжественно, при большом стечении народа похоронен в Москве на кладбище Данилова монастыря. Рядом с ним упокоился прах его друзей и соратников по земной жизни: Гоголя, Языкова, Хомякова, Самарина, князя Черкасского. В 1929 году обитель святого князя Даниила Московского была закрыта, а на ее территории, окруженной высокими монастырскими стенами, новая власть организовала приемник-распределитель для детей репрессированных родителей и малолетних правонарушителей. Кладбище при монастыре было уничтожено. В последний момент удалось спасти только осанки Языкова, Гоголя и Хомякова — в 1931 году их перенесли на кладбище Новодевичьего монастыря. А место погребения Чижова, отмеченное скромным, из белого мрамора, надгробием в форме древнего, допетровских времен, креста и плиты с высеченными датами рождения и смерти, сровняли с землей. Только в наше время, спустя более чем полвека, на территории возрожденного Данилова монастыря, ставшего с начала 1980-х годов резиденцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, в одном из уголков, где находился некрополь, возведена часовня — в память обо всех, кто нашел здесь когда-то свое последнее земное пристанище.
Симонова Инна Анатольевна, кандидат исторических наук, член Союза писателей и Союза журналистов России
ПРИМЕЧАНИЯ:
1 — «Слова верующего"(франц.)
2 — Джузеппе Мадзини (Mazzini).
3 — Катков.
4 — «Воспоминания сумасшедшего» (фр.).
5 — враги рода человеческого» (лат.)
http://rusk.ru/st.php?idar=111806
Страницы: | 1 | |