| Православная жизнь | 26.11.2025 |
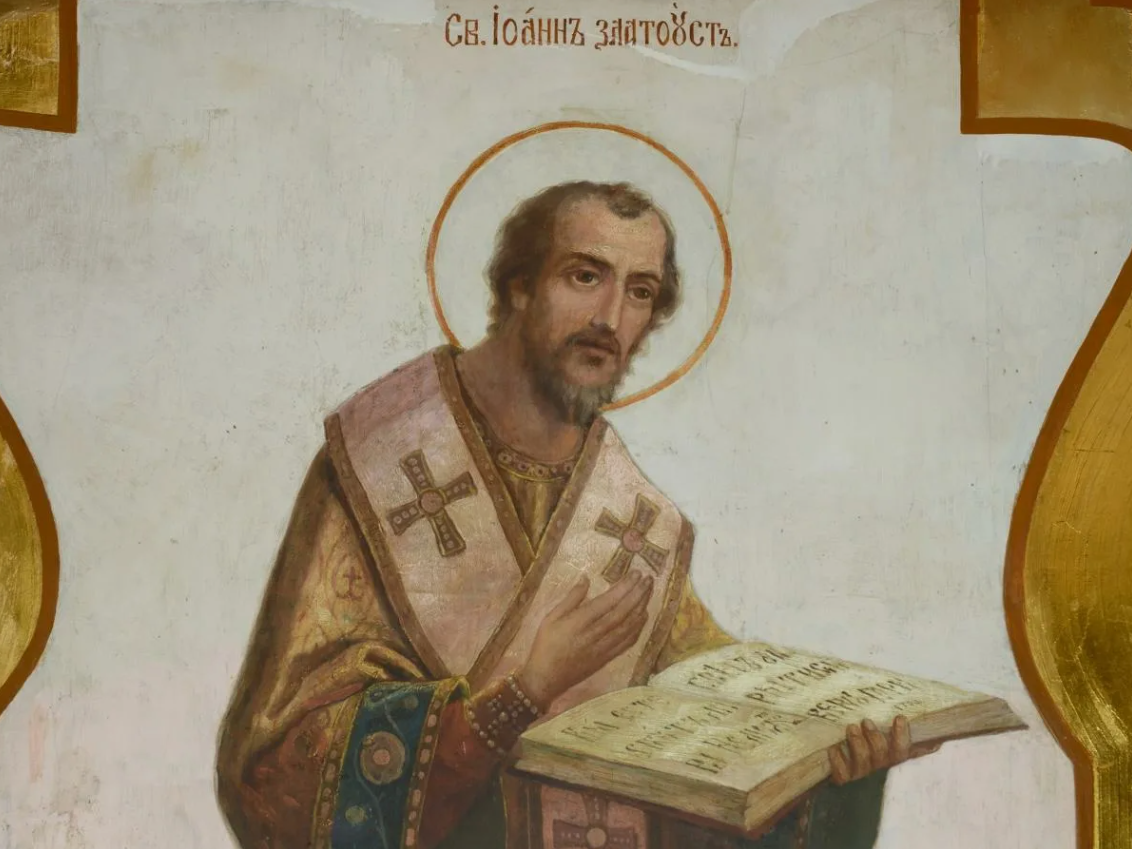 Когда Иоанна Златоуста, уже тяжело больного, везли по глухим дорогам Малой Азии, его не щадили. Его перевозили из одного захолустного места в другое, не позволяя остановиться, не давая передышки. Он почти не мог идти сам. Служители власти спешили — не из милосердия, а из злобы, из желания поскорее завершить то, что казалось им делом государственным. В те дни у него уже почти не было ничего: ни кафедры, ни храма, ни учеников рядом, ни человеческой защиты. Оставались лишь боль, усталость и Бог. И именно тогда, на пределе изнеможения, из его уст прозвучали слова, которые пережили века: «Слава Богу за все».
Когда Иоанна Златоуста, уже тяжело больного, везли по глухим дорогам Малой Азии, его не щадили. Его перевозили из одного захолустного места в другое, не позволяя остановиться, не давая передышки. Он почти не мог идти сам. Служители власти спешили — не из милосердия, а из злобы, из желания поскорее завершить то, что казалось им делом государственным. В те дни у него уже почти не было ничего: ни кафедры, ни храма, ни учеников рядом, ни человеческой защиты. Оставались лишь боль, усталость и Бог. И именно тогда, на пределе изнеможения, из его уст прозвучали слова, которые пережили века: «Слава Богу за все».
Чтобы понять силу этих слов, нужно вернуться к началу его пути.
Иоанн родился в Антиохии — одном из самых шумных, противоречивых городов своего времени. Его мать Анфуса рано овдовела, и больше не вышла замуж, посвятив всю себя воспитанию сына. Она дала ему воспитание редкой строгости и чистоты. Он получил блестящее образование у лучших риторов, изучал философию, литературу, владел искусством слова так, как владеют немногие. Ему прочили блестящую светскую карьеру — путь славы и признания. Но именно тогда он впервые ясно понял: красота слова ничего не стоит, если им не служат Истине.
Он ушел туда, где слова становятся лишними — в уединение. Несколько лет провел в почти безмолвной жизни, в молитве и строгом подвиге. Это уединение подорвало его здоровье, но закалило душу. Вернувшись в город уже другим человеком, он был рукоположен во диакона, затем во пресвитера. И на амвоне Антиохийского собора его слово прозвучало не как риторика, а как суд совести. Он говорил о покаянии, милосердии, справедливости, о тщете богатства и лжи мира — и люди слушали. Не потому, что он был красноречив, а потому что он говорил правду.
Когда его избрали архиепископом Константинопольским, это стало не возвышением, а крестом. Он не стремился к власти и не искал этого служения. Его буквально увезли тайно из Антиохии, чтобы избежать волнений. В столице святитель оказался среди роскоши, интриг, лицемерия и духовной распущенности, включая и саму церковную среду. И то, что он увидел, не позволило ему молчать.
Он отказался от прежнего образа жизни архиепископов, сократил расходы двора, начал обличать корысть духовенства, требовал чистоты, воздержания, милосердия к бедным. Он отказывался входить в союзы, не принимал подарков, не шел на компромиссы с совестью. Его проповеди касались не отвлеченных тем, а самого сердца человеческой неправды. И чем яснее была его правда, тем больше становилось у него врагов.
Особенно сильным стал конфликт с императрицей Евдоксией. Он не льстил ей, не украшал зло, не называл гордыню величием. И когда ее дела стали соблазном для народа, он говорил об этом открыто. За это его сослали впервые. Народ восстал, и его вернули. Но ненадолго. Вторая ссылка стала окончательной.
В изгнании он не ожесточился. Он писал письма тем, кто страдал, утешал, укреплял, наставлял. Его мысли были не о себе. Он по-прежнему жил Церковью, ее болью и ее будущим. Его тело разрушалось, но дух оставался непоколебим. Когда его в очередной раз заставили продолжить путь, хотя он уже почти не мог двигаться, он произнес: «Слава Богу за все». И вскоре отошел ко Господу.
Это были не красивые слова смиренного мученика. Это было свидетельство человека, который прошел до конца и увидел — даже во времени, где все отнято, сохраняется главное. Не свобода, не имя, не власть, не человеческая правда, а единение с Богом.
Его слова и сегодня звучат в каждом храме. Его литургия совершается день за днем. Но суть Иоанна Златоуста — не только в письменном наследии и не только в красоте текста богослужения. Она в том выборе, который он сделал однажды и не предал до конца: не поклониться миру, не продать правду, не смягчить то, что должно быть острым.
И потому его «Слава Богу за все» — это не фраза. Это вершина жизни, из которой исчезло все лишнее. Это голос человека, у которого уже нечего отнять, потому что главное уже принадлежит Богу.