| Русская линия | 25.12.2023 |
ОТ РЕДАКЦИИ: Воспоминания полковника Л. Андреевского посвящены началу формирования добровольческих частей и выступлению отряда Дроздовского в поход Яссы-Дон. Автор подробно описывает ситуацию накануне создания добровольческих частей на Румынском фронте во второй половине 1917 года, характеризует отношения русских офицеров к процессу украинизации подразделений Императорской армии на примере своего 14-го стрелкового генерал-фельдмаршала Гурко полка.
 Первое знакомство с Павлом Михайловичем подпоручиком Трофимовым, у меня произошло в июле месяце 1917 г., в печальную память командования 14-м стрелковым генерал-фельдмаршала Гурко полком, полковником [И. В.] Галущинский до этого ничего общего не имевшего с нашим полком, как и с нашей «Железной дивизией». Надо упомянуть, что названный полковник Галущинский прибыл к нам в полк в середине января [19]17 года из [2-го] Киевского Николаевского военного училища, при замене части кадров училища офицерами из действующей армии.
Первое знакомство с Павлом Михайловичем подпоручиком Трофимовым, у меня произошло в июле месяце 1917 г., в печальную память командования 14-м стрелковым генерал-фельдмаршала Гурко полком, полковником [И. В.] Галущинский до этого ничего общего не имевшего с нашим полком, как и с нашей «Железной дивизией». Надо упомянуть, что названный полковник Галущинский прибыл к нам в полк в середине января [19]17 года из [2-го] Киевского Николаевского военного училища, при замене части кадров училища офицерами из действующей армии.
Происшедшая затем Февральская революция, и умелое лавирование полковника Галущинского в новой обстановке сделали то, что последний в мае месяце принял командование над нашим полком, взамен ушедшего нашего кадрового стрелка и боевого командира полка полковника [В. И.] Бален-де-Баллю, не пожелавшего помириться с новыми настроениями и веяниями в армии. О печальной деятельности полковника Галущинского в роли командира полка я распространяться не буду, так как это не входить в задачу моих воспоминаний. Укажу только, что в начале июля месяца им было выписано из Киевского Николаевского военного училища два офицера, которые там исполняли обязанности помощников курсовых офицеров. Этими офицерами были: его зять, бывший присяжный поверенный прапорщик Х и подпоручик [П. М.] Трофимов.
Первый был назначен, если не ошибаюсь, хозяином собрания полка — подпоручик же Трофимов оперативным адъютантом. Прибывшие «непрошенные гости» были встречены, еще остававшимися старыми офицерами в полку, не особенно приветливо, а нравственные качества прибывших оценивались не выше качеств самого полковника Галущинского. Лично я тогда с Павлом Михайловичем никаких соприкосновений не имел, и если мне приходилось по делам службы с ним сталкиваться, то это ограничивалось только последним. При встречах же — взаимным отданием чести (без рукопожатий).
 Первое же мое настоящее знакомство с подпоручиком Трофимовым произошло, когда я резко изменил о нем свое суждение и понял наконец сущность этого человека, была середина октября месяца, когда полковник Галущинский производил свой очередной эксперимент над полком, по украинизации его в «ударном порядке». Помню, как сейчас, когда наш полк был отведен в резерв, и в один из таких осенних дождливых вечеров, я находился к себя в халупе и лежа на гинтере — думал невеселые вещи, кто-то постучался ко мне. На мои слова: «Войдите!» — вошел подпоручик Трофимов, который, не поздоровавшись со мной, сказал, что пришел ко мне специально поговорить о полковых делах и узнать мое личное мнение о безобразиях, происходящих в полку, творимых полковником Галущинским.
Первое же мое настоящее знакомство с подпоручиком Трофимовым произошло, когда я резко изменил о нем свое суждение и понял наконец сущность этого человека, была середина октября месяца, когда полковник Галущинский производил свой очередной эксперимент над полком, по украинизации его в «ударном порядке». Помню, как сейчас, когда наш полк был отведен в резерв, и в один из таких осенних дождливых вечеров, я находился к себя в халупе и лежа на гинтере — думал невеселые вещи, кто-то постучался ко мне. На мои слова: «Войдите!» — вошел подпоручик Трофимов, который, не поздоровавшись со мной, сказал, что пришел ко мне специально поговорить о полковых делах и узнать мое личное мнение о безобразиях, происходящих в полку, творимых полковником Галущинским.
На мое удивление и откровенно высказанное мною предположение, что я считал Павла Михайловича верным исполнителем и помощником всех предначертаний командира полка, последовал ответ, что я глубоко заблуждаюсь и что разобравшись в полковнике Галущинском, он уже давно к нему стоит в оппозиции и что наконец его чаша терпения переполнилась, и потому он пришел ко мне как единственному оставшемуся в полку кадровому офицеру, не считая начальника хозяйственной части подполковника [А. В.] Чекова, узнать мое мнение по поводу творящихся безобразий в полку, и если я не одобряю всего этого, то мой долг это громко сказать и в этом я не буду одинок, так как буду не только поддержан Павлом Михайловичем, но и многими офицерами полка.
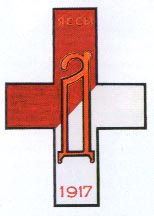 В этот вечер Павел Михайлович особенно долго у меня засиделся, и мы до поздней ночи беседовали о непопулярной украинизации нашей дивизии, а также начавшемся полном развале армии и наконец о формирующихся каких-то офицерских отрядах на Дону, куда нам также, по-видимому, придется пробираться, если выясниться окончательный развал армии. В этот вечер мы расстались с Павлом Михайловичем большими друзьями, ибо, узнав и поверив друг другу в искренность своих убеждений, увидели, что нас обоих связывает одна общая идея, имя которой Россия.
В этот вечер Павел Михайлович особенно долго у меня засиделся, и мы до поздней ночи беседовали о непопулярной украинизации нашей дивизии, а также начавшемся полном развале армии и наконец о формирующихся каких-то офицерских отрядах на Дону, куда нам также, по-видимому, придется пробираться, если выясниться окончательный развал армии. В этот вечер мы расстались с Павлом Михайловичем большими друзьями, ибо, узнав и поверив друг другу в искренность своих убеждений, увидели, что нас обоих связывает одна общая идея, имя которой Россия.
Для себя же лично скажу, эта встреча и откровенный разговор с Павлом Михайловичем были окончательным решением, что в случае полного развала армии моя дорога — это Дон. С этого достопамятного вечера, когда меня судьба в дальнейшем надолго связала с Павлом Михайловичем. у меня начинается самое тесное единение с ним, и наши встречи начинают происходить не только ежедневно, но даже и по несколько раз в день. Момент самой украинизации полка для меня как кадрового офицера этого полка был самым тяжелым моментом в жизни, так как тяжело было видеть как один из доблестнейших полков русской армии, украинизируется по прихоти какой-то кучки случайно появившихся людей, в прошлом ничего не имеющих с полком, нашими стрелковыми традициями и наконец с его боевой славой и переименовывается в ничего не говорящий украинский курень.
Я помню, как мы с Павлом Михайловичем все это болезненно переживали и всеми имеющимися силами старались противодействовать этому: собирали офицеров и говорили по этому поводу с ними. Не скрою собирали также и старых еще оставшихся солдат и разъясняли им всю преступность этого шага, напоминая им их былую доблесть, когда каждый из нас от молодого стрелка до старого офицера гордился почетным именем «железного стрелка», имя которых заслужили наши деды и отцы на Шипке в освободительную войну 1877 г. Я помню, как по настоянию Павла Михайловича было собрано офицерское собрание, которое резко осудило украинизацию полка и наше постановление было подписано более 50 подписями офицеров… И таким образом непопулярная украинизация полка была на время отсрочена.
 Но грянул большевистский переворот со снятием погон и выборным началом. Большинство офицеров полка увидело самый удачный выход из создавшегося положения, компромиссное решение, то есть объявление себя украинцами… Этому решению также способствовало объявление, что после украинизации, полки возвратятся в Одессу, к обычному месту расположения нашей бригады еще в мирное время. Впоследствии, правда, это действительно и было исполнено. Украинские агитаторы все это использовали, призывая всех украинизироваться, попутно обливая помоями все, что носит еще русское имя, и сравнивая «иго Московии» над «ридной Украиной» горше татарского!!! Тяжело и больно все это было нам слушать офицерам и стрелкам, остававшимися верными Русской идее…
Но грянул большевистский переворот со снятием погон и выборным началом. Большинство офицеров полка увидело самый удачный выход из создавшегося положения, компромиссное решение, то есть объявление себя украинцами… Этому решению также способствовало объявление, что после украинизации, полки возвратятся в Одессу, к обычному месту расположения нашей бригады еще в мирное время. Впоследствии, правда, это действительно и было исполнено. Украинские агитаторы все это использовали, призывая всех украинизироваться, попутно обливая помоями все, что носит еще русское имя, и сравнивая «иго Московии» над «ридной Украиной» горше татарского!!! Тяжело и больно все это было нам слушать офицерам и стрелкам, остававшимися верными Русской идее…
Я помню, что в середине декабря у меня на квартире собрались Павел Михайлович и поручик [М. Г.] Рауткин и мы вместе советовались, как нам быть и как нам вообще на все это реагировать. Тогда нами было решено по-прежнему продолжать борьбу с украинизацией полка и в случае необходимости уйти с сочувствующими нам офицерами и верными нам стрелками из полка. В дальнейшем же, если позволит на то обстановка использовать их, как активный противобольшевистский элемент. Если же это не удастся, то не бросая на произвол судьбы наших стрелков, пристроить их в какой-нибудь менее развалившийся соседний полк, самим с группой офицеров начать пробираться на Дон, о существовании на котором офицерских отрядов тогда под шумок, ходили определенные слухи. Не помню точно в каких числах декабря украинизация дивизии была произведена и имя славной 4-й стрелковой «железной» дивизии было заменено каким-то другим — ничего не говорящим названием. Не пожелавшие украинизироваться в нашем полку отказались 21 офицер и около 550 стрелков.
С этого момента мое знакомство и сближение с Павлом Михайловичем происходит еще больше, чему способствует переход Павла Михайловича и поручика Рауткина с группой офицеров на жительство ко мне на квартиру. В эти вечера я, Павел Михайлович и поручик Рауткин проводили мысль, что нам необходимо вести беседы со стрелками и выяснив окончательно их настроение, если будет это возможно, использовать наших стрелков для борьбы с большевиками, если же это окажется невозможным, то влив их в соседние менее развалившиеся полки, самим группами направляться на Дон.
В этот период времени особенно плодотворна была работа Павла Михайловича, который главным образом и вел беседы со стрелками. Вскоре таким путем было выяснено, что настроение наших солдат безусловно противобольшевистское, но активно использовать их невозможно, так как люди видя, что война уже фактически окончена, мечтают только о возвращении домой, ни о чем другом не думая. На решение пристроить наших стрелков в соседние менее разложившиеся полки, а самим отправиться на Дон вскоре повлиял следующий трагикомический эпизод. В один из вечеров, когда часть офицеров сидела у меня за вечерним чаем, позвонил телефон и дежурный телефонист доложил, что меня просят из штаба корпуса [40-го армейского корпуса]… Подойдя к телефону, я услышал следующее: «Господин капитан, корпусной комитет вас решил избрать корпусным командиром. Не согласитесь ли вы принять эту должность?» Огорошенный таким предложением я закрыл ладонью трубку и сидящим у меня офицерам сообщил все сказанное, спросив:
— Что же мне делать?
— Конечно не соглашаться, — первым из всех сказал Павел Михайлович.
— Но под каким предлогом? — спросил я его.
— Своей неподготовленностью, — посоветовал мне Павел Михайлович.
После этого начался мой разговор с председателем корпусного комитета. Поблагодарив его за предложение, я высказался, что таким большим соединением я никогда не командовал и мой стаж дальше командира батальона не шел. На это последовал ответ, чтобы я особенно не боялся, так как в трудную минуту мне всегда помогут «товарищи писаря!».
На мой категорический отказ последовали просьба, коротенько обо всем подумать и завтра дать окончательный ответ. После этого обсуждая с присутствующими офицерами происшедшее «событие», мы пришли к заключению, что так как большевизм все прогрессирует, а об активном привлечении наших солдат теперь и думать не приходится, то пристроив их в полки нашего корпуса, самим кто на это окончательно решится, начать пробираться на Дон. Утром после моего окончательного отказа принять должность командира 40-го армейского корпуса, Павел Михайлович с поручиком Рауткиным отправились в штаб 2-й стрелковой дивизии для выяснения в какие лучше полки влить наших людей. Наш выбор остановился на 5-м и 7-м стрелковых полках, как менее разложившихся, что нами было и сделано.
К сожалению, к моменту слияния наших людей, и в этих полках произошло выборное начало, правда без эксцессов… Влив наших стрелков в эти полки отдельными группами, я с Павлом Михайловичем, подпоручиком Рауткиным и еще 12 офицерами решили пробираться на Дон, остальные офицеры, побоясь идти на этот рискованный шаг остались со стрелками в указанных полках.
В 7-м стрелковом полку я от одного полковника узнал, что в Яссах формируется какой-то офицерский отряд, который является филиалом Добровольческой армии. Попрощавшись с оставшимися офицерами и стрелками и пожелав им скорого возвращения домой, мы как новые люди в 7-м стрелковом полку, легко без всяких задержек, на второй день нового года (старый стиль) в начале пятого часа утра тронулись пешком в путь, обходя узловые станции, так как уже имелись совпадения, что на таковых имеются заградительные отряды.
Наш маршрут был не то Бакэу, где находился официально украинизированный штаб 9-й армии — далее, по железной дороге Яссы. В Бакэу мы потратили несколько дней в напрасном хождении с Павлом Михайловичем по учреждениями штаба армии с целью выяснения местонахождения формирующегося отряда русских добровольцев. Большинство офицеров Генерального штаба, отнекивались не знанием этого вопроса, давая, однако понять, что отряд все же где-то существует и формируется… Были и другие предложения остаться в Бакэу и поступить в охранный отряд из офицеров. Для охраны армейских складов и наконец самой Ставки. Последнее нами было отклонено.
Только на третий день нам удалось узнать от одного генштабиста, что отряд действительно существует в окрестностях Ясс, и что формированию его приступлено по распоряжению генерала [от инфантерии М. В.] Алексеева. Вербовочное же бюро этого отряда находится в самих Яссах на улице Мазалер № 24. Разоткровенничавшийся полковник, затем почему-то постарался меня уверить, что сам он никакого отношения к этому отряду не имеет, и что все его сведения носят чисто частный характер.
На другой день с нехорошим чувством, мы покинули город полный фланирующих по тротуарам офицеров и не знающих по-видимому, что вообще им делать… 9 января наша группа, насчитывающая к этому времени всего 12 человек, появилась в городе Яссы и направилась с вокзала на улицу Мазалер № 24 и ознакомившись в бюро с задачами отряда, записалась в отряд.
Итак, 9 января 1918 г. является днем нашего поступления в Добровольческую армию. После записи мы все направились в английский госпиталь, помещающийся в здании какого-то католического монастыря, не то пансиона, который в то время служил общежитием для вновь записавшихся в отряд. Двухдневное пребывание в этом общежитии на нас произвело самое отвратное впечатление, так как вся обстановка, царившая там производила самое несерьезное впечатление: обитатели все время проводили в гулянье по городу, и приходили только к очередной раздаче еды и наконец, чтобы спать. Наша маленькая группа держалась в стороне.
Насмотревшись хорошенько на все творящиеся в общежитии порядки, мы при раздаче ужина, начали с Павлом Михайловичем, откровенно во всеуслышание критиковать, установившиеся в общежитии порядки, справедливо указывая, что все это не похоже на то, что люди готовят себя к серьезной задаче борьбы с большевиками, а поэтому просили заведующего общежитием штабс-капитана Кавтарадзе отправить нас с первой же оказией в отряд. Капитан Кавтарадзе был несколько сконфужен нашими суждениями, и соглашаясь в правоте всего сказанного успокаивал нас, что в Скинтее мы увидим совсем другое.
Через день или два после несения нами караульной службы в Соколах у отрядного имущества, мы с очередным транспортом тронулись к месту расположения отряда, и на рассвете 13 января прибыли в Скинтеи. Явившись к командиру 1-й офицерской роты с группой своих однополчан, я был направлен им к полковнику [М. К.] Войналовичу. Оказывается, к тому времени о появлении нашей маленькой группы в отряде было известно и своей сплоченностью, мы видимо, за этот короткий срок успели на себя обратить внимание. Явившись к полковнику Войналовичу, я был расспрошен им, какой я части, и кто такие прибывшие со мной офицеры.
II
В результате своего разговора, полковник Войналович сказал мне, что он решил приступить к формированию 2-й офицерской роты, в которую командиром назначает меня — прибывшие же со мной офицеры будут первыми офицерами формирующейся роты. Таким образом днем формирования 2-й офицерской роты, сыгравшей видную роль в жизни отряда, является 13 января 1918 г. Первый же ее кадр, в числе 12 человек, были офицеры 14-го стрелкового генерал-фельдмаршала Гурко полка.
В момент нашего прибытия в Скинтеи, отряд находился в первой стадии своего формирования, и тогда состоял из 1-й офицерской роты, пулеметной команды, вернее пулеметного взвода, конно-горного артиллерийского взвода под командой капитана [Б. Я.] Колзакова. Этот взвод в дальнейшем развернулся в батарею. Команды артиллерийских офицеров, довольно многочисленной, которая ожидала прибытия орудий. И наконец, так называемой нестроевой (хозяйственной) команды, опять-таки из офицеров.
Непосредственно отрядом ведал ближайший помощник полковника [М. Г.] Дроздовского — Генерального штаба полковник Войналович. В то время полковника Дроздовского мы очень редко видели, так как он находился все время в Яссах и вел переговоры с румынским командованием, а также и с союзными миссиями по формированию отряда. Вся работа на месте лежала на полковнике Войналовиче, она была очень хлопотлива и даже скажу, неприятно мелочна, так как последнему приходилось вникать во все, вследствие неимения энергичных помощников в среднем командном составе. Это касалось особенно пехоты.
Как курьез расскажу, что первым командиром 1-й офицерской роты был казачий есаул, оказавшийся впоследствии самозванцем и который на самом деле был всего только чиновник военного времени. Через несколько дней после нашего прибытия в Скинтею он скрылся, видимо боясь открытия своего «инкогнито». Настроение в отряде было безусловно хорошее, но я думаю, что тогда многие не представляли себе во что в дальнейшем выльется на практике их деятельность, так как не была изжита еще старая привычка обходиться без денщиков, а потому в бараках была страшная грязь…
Жизнь отряда складывалась главным образом в хозяйственных заботах: заготовлением дров в соседнем лесу для топки печей в бараках, разгрузка прибывающих эшелонов с имуществом отряда, уходы за лошадьми, караульно-охранной службы и наконец в совершении иногда набегов на проходившие невдалеке от нас обольшевизированные полки, которые с фронта возвращались в Россию домой. Цель таких экспедиций была приобретение оружия для отряда, лошадей и повозок.
Свободное же время проводилось в лежании на нарах или же на гинтерах, если они сохранились еще кой у кого, вечером же в карточной игре и в большинстве даже азартной. Нам как свежим людям все это особенно бросалось в глаза. В ожидании прибытия пополнения в нашу формируемую роту, мы, сидя в отведенном бараке для 2-й роты делились впечатлениями о всем виденном и обсуждали вопрос, как в будущем избежать возможных ошибок, чтобы наша рота по своему укладу не была бы похожа на своих соседей. Было решено завести строжайшую дисциплину. Мои однополчане обещали мне в том полную поддержку. Лично в укладе жизни будущей роты я предложил ввести режим военных училищ, который в обстановке нашей жизни только отвечал этому. За образец я взял режим Киевского военного училища, которое я в свое время окончил.
Так как мои однополчане были офицеры военного времени, то я подробно им рассказывал какой у нас был введен порядок жизни в ротах училища. Рассказывал им, что у нас в училище все начальствующие юнкера, начиная с отделенных должны были вставать за полчаса раньше и при подъеме роты должны были быть на ногах и наблюдать за своими подчиненными. В будущем же, я говорил, в нашей роте и это также должно быть. Лично и я обещал это сам сделать. Я проводил мысль, что только личный пример, дисциплина и регулярные строевые занятия могут скоро сколотить роту. Говорил я также, что хотя мы и офицеры, но революция и нас тоже всех разболтала. И так все эти дни в ожидании пополнений проходили в обсуждении нашей линии поведения в будущей роте. В своих начинаниях я от своих однополчан видел полную поддержку, восторженный же Павел Михайлович в нашем приходе в отряд усматривал даже какую-то особую миссию…
Вскоре начало прибывать пополнение и даже целыми пачками. Первым взводным командиром был назначен поручик Рауткин, как самый старший офицер после меня, долго командовавший в нашем полку ротой и в конце даже батальоном. Формирование роты шло успешно, и я строго держался своей линии поведения, так как знал, что я не одинок и в случае чего всегда найду поддержку у своих однополчан. Как только в роте образовался взвод в 30−40 человек, начались регулярные занятия. Это было ново для Скинтеи. И рота получила в отряде название «дисциплинарной», правда после того, как из 1-й роты ко мне было переведено несколько (3) офицеров, с которыми не мог справиться тамошний командир роты.
Полковник Войналович, видя, что порядки во 2-й роте завелись совсем другие и рота принимает вид определенно строевой части начал направлять пополнение только во 2-ю роту, а потому численность ее стала равной 1-й роты, а затем даже и превысила. В этот период времени особенно оказалась ценна роль Павла Михайловича, который жил только жизнью роты и гордился ее успехами… За это время он много дал мне, в тактичной форме, много ценных советов, главное же будучи рядовым штыком, и общаясь со всеми офицерами роты, умел подойти к каждому офицеру и иной раз даже и подбодрить более слабых духом и характером.
Я помню, как однажды возвращаясь с учебной стрельбы, я попробовал с песнями идти в лагерь. Это вышло удачно: песня лилась красиво, да, кроме того, были и хорошие голоса. Правда перед этим уже с неделю по вечерам, после поверки, у нас бывали спевки в помещении 1-го взвода, которыми руководил поручик Рауткин. Но самым эффектным было, когда рота, войдя в расположение отряда, очень красиво запела новую песню. Для отряда это была полнейшая неожиданность. Так как рота запоздала и в это время был обеденный перерыв, то офицеры повысыпали из бараков и слушали пение марширующей роты. По лицам офицеров роты я видел, что им самим приятно произведенное впечатление на весь отряд и что сейчас они сами гордятся принадлежностью к составу 2-й роты. В этот день название «дисциплинарной» было в отряде заменено названием «образцово роты"…
За все мое пребывание в Скинтеи у меня только раз был случай, когда вся наша работа могла сойти на нет. Это был случай, когда подпоручик [Н. В.] Избаш, будучи дневальным по взводу, отказался после обеда мыть котелки всего взвода, по заведенному в роте порядку, и арестованный мной, также отказался идти под арест. Тогда он был под конвоем офицеров с винтовками доставлен в карцер. Этот случай для меня был особенно тяжел, так как подпоручик Избаш был моим однополчанином. Правда в отряд он прибыл не вместе с нами, а уже после нас одиночным порядком. В дальнейшем подпоручик Избаш погиб смертью храбрых под Ставрополем, где там же был убит и поручик Рауткин…
Время в Скинтее с постоянными занятиями удивительно скоро и незаметно текло. Было начало февраля. К этому времени в роте за мной установилась репутация тихонького офицера, но с которым связываться вообще не рекомендовалось — как это смеясь мне однажды сказал Павел Михайлович.
В середине февраля, в связи с тем, что пошли слухи о возможном сепаратном мире румын с германцами, полковник Дроздовский решил, не дожидаясь окончательного формирования отряда двинуться в Россию. Для этого предполагалось первоначально, по железной дороге, сосредоточится в Кишиневе. 21 февраля я с ротой, около 10−11 часов вечера выступил на станцию Соколы, где предполагалась погрузка отряда в эшелон для следования в Кишинев. остальные части отряда должны были выступить на другой день. В Соколы я с ротой прибыл на рассвете следующего дня и расположился с ротой в пустых эвакуационных бараках у железной дороги.
Это время до самого нашего выхода было очень тревожным и напряженным, так как румыны не давали паровозов под наши уже нагруженные эшелоны под всякими предлогами… В отряде все волновались и в голову лезли нехорошие мысли — 25 февраля вечером, после вечерней переклички, в барак, где располагалась наша рота вошел капитан Колзаков, который мне сказал, что желает со мной наедине поговорить. Мы вышли с ним из барака. После этого капитан Колзаков начал мне говорить: «Обстановка очень неважная, есть все признаки, что паровозы нам даны не будут. Возможно, что завтра даже может быть произведено разоружение отряда. У нас в отряде все потеряли головы… — Затем он добавил. — С офицерами своей батареи я недавно разговаривал, настроение в батарее бодрое и очень хорошее, а потому он решил, что, если завтра появятся признаки разоружения отряда, обстрелять город, и в первую очередь парламент и королевский дворец, артиллерийским огнем. Об этом офицеры его батареи знают и обещали ему в том полное повиновение, но, чтобы это сделать необходимо ему пехотное подкрепление для свободной работы у орудий. Из всех пехотных частей отряда, — добавил он — я считаю, что такую задачу только может выполнить 2-я рота». Затем он меня спросил: может ли он от меня ожидать это прикрытие? Я дал ему согласие, но просил начать стрельбу, когда окончательно выясниться, что другого выхода у нас уже нет…
После этого капитан Колзаков сказал мне, что он предполагает вести огонь по городу, по возможности до вечера, а затем пользуясь темнотой и поднявшийся кутерьмой и неразберихой, верхами на лошадях, отдельными группами, уходить в направлении России, а потому советовал и мне позаботиться о лошадях для роты. На это я ему возразил, что для меня это технически не выполнимо, так как для роты я не найду необходимого числа лошадей, если же я займусь подысканием чужих седел и лошадей отряда, то тайна уже этим будет нарушена и это послужит к окончательному и преждевременному развалу отряда, но прикрытие к его орудиям, я все же обещал дать.
Мы условились, что за прикрытием он пришлет своего офицера. Затем капитан Колзаков рукой приблизительно показал мне направление свободной площадки от вагонов, где он предполагает утром расположить свои 4 горные пушки. Прощаясь со мной, капитан Колзаков сказал: «Пусть завтра узнает весь мир, как умеют умирать русские офицеры, верные своей идее, но забытые своими союзниками и проданные мерзавцами румынами…». После этого, когда я попрощался с капитаном Колзаковым и собирался было идти в барак, из темноты, для меня неожиданно, появилась фигура Павла Михайловича, который подойдя ко мне сказал: «Леонид Иванович, если не секрет, о чем вы так долго и оживленно разговаривали в капитаном Колзаковым?» На это я ответил: «Павел Михайлович позовите пожалуйста штабс-капитана [А. В.] Туркула, и тогда я вам обоим все расскажу». Когда Павел Михайлович вместе с штабс-капитаном Туркулом ко мне подошли, я им все рассказал, умолчав только о лошадях, считая это не выполнимой задачей. И добавил, что прикрытие к орудиям я обещал дать. Возражений не последовало… Павел Михайлович только сказал, хорошо бы было пойти к полковнику Войналовичу, и от него узнать всю обстановку, а затем и его поставить в известность обо всем.
Мы все трое направились к нему. Полковника Войналовича мы застали в отдельной комнате, бывшей видимо, канцелярией эвакопункта. Он сидел за столом и что-то писал. При нашем появлении полковник Войналович встал из-за стола и поздоровался с нами. Я попросил его ориентировать нас в обстановке. Полковник Войналович сказал: что полковник Дроздовский все еще находится в городе. На все его просьбы дать паровозы, румыны отнекиваются не имением их. Все крайне неопределенно, но категорического отказа пока еще нет. В таком же положении находится и французская военная миссия. Я ему доложил о нашем решении. Немного подумав, полковник Войналович сказал, что с исполнением этого решения не надо торопиться, и оно должно быть произведено, когда других выходов не будет. Затем пристально посмотрев на нас, он сказал: «Верьте, что я все время буду с вами и не брошу вас, последнее же что я сделаю…» — и он, молча движением руки показал на лежащий на столе наган. Мы попрощались с вышли от него.
На дворе я сказал штабс-капитану Туркулу и Павлу Михайловичу, чтобы в роте о принятом решении никому бы не говорилось… Штабс-капитану Туркулу я отдал распоряжение, чтобы рота с утра держалась в бараках вместе и люди роты далеко бы не расходились. При роте все время должны находиться кто-нибудь из нас, то есть я или он. Занятие с влитыми в роту «гайдамаками», которые на самом деле представляли, в большинстве, учеников Кишиневского городского училища, завтра все же начать производить. После этого мы отправились в роту, и я лег спать, так как было уже не менее 12 часов ночи. рота же давно уже вся спала.
Утро 26 февраля нового ничего не принесло. Под видом поверки занятий с влитыми к нам «гайдамаками», которых мы получили два дня тому назад в Соколах, я осмотрел территорию места расположения отряда. Особых тревожных признаков не было, маленькие румынские караулы с часовыми были, но они были еще и раньше поставлены в день нашего прибытия в Соколы. И присутствие их объяснялось охраной румынского имущества. Не помню точно, но между 11−12 дня, ко мне прибыл офицер из батареи капитана Колзакова, если не ошибаюсь, то даже мой младший брат, который был в то время вахмистром конно-горной батареи. Он сказал, что командир батареи ждет мою роту. Я вызвал всех взводных и вкратце стал объяснять обстановку и задачу рот.
На мой вопрос к взводным будет ли выполнено приказание, никогда не забуду, как громко и волнуясь вскрикнул штабс-капитан [А. П.] Лебедев: «Господин, капитан!!! Довольно керенщины!!! Приказывайте!!! Приказание будет выполнено!!!» Тогда я громко скомандовал: «2-я рота в ружье!!!» И рота стала строиться в проходы барака. В этот момент в другие двери месторасположения 3-й и 1-й рот, вбежали офицеры, взволнованно крича: «Румыны идут нас разоружать!!!».
III
Отлично помню, как офицеры 3-й роты начали сбрасывать с себя снаряжение и по одному выбегать из бараков. В 1-й роте было тоже замешательство… Отдельные голоса кричали: «1-я рота в ружье!!!» Что дальше было я не знаю, так как повернув роту стал ее выводить наружу. По выходе из барака, что прежде всего я ощутил — это ослепительное солнце, которое било прямо в глаза… Я обратил внимание на одиночных офицеров, которые жались к стенке барака и тревожно смотрели в сторону вагонов, в промежутках которых были видны румынские солдаты, которые еще вдалеке, перебегали от прикрытия к прикрытию. Когда я хотел отдать команду разводить взводы, послышались сзади голоса: «Полковник Дроздовский идет!!!» Повернув голову направо, я действительно увидел, как по шоссе из города мчался автомобиль. Я узнал в нем полковника Дроздовского, который стоя во весь рост и держась одной рукой за борт автомобиля, другой рукой размахивает над головой чем-то белым… Рота остановилась. Затем я услышал возгласы, что полковник Дроздовский привез личный королевский указ о разрешении выхода отряда. Раздалось оглушительное «ура!!!»
Приезд полковника Дроздовского был нашим спасением, ибо опоздай он хоть немного, случилось бы то, что поправить было бы поздно… Я был так всем взволнован, что не помню сейчас, кто тогда скомандовал роте «кругом» — для ввода ее обратно в бараки. По-моему, кажется, штабс-капитан Туркул. Не более как через полчаса меня потребовал к себе полковник Дроздовский, который мне сказал: «Разрешение на выезд имеется. Не позже, как через 3 часа должен будет отойти первый эшелон». В первый эшелон он назначает 2-ю роту, как более других сколоченную. Задача роты во что бы то ни стало прибыть в Кишинев, место конечной нашей высадки, где оставаясь в районе вокзала, обеспечить высадку последующих эшелонов. Между пятью или шестью часами дня наш эшелон тронулся в путь. Дежурный взводом на случай тревоги в эшелоны был назначен 2-й взвод штабс-капитана Лебедева.
Я расположился в кухонном вагоне на мешках риса и связках одеял. В вагоне со мной были штабс-капитан Туркул, Павел Михайлович, ротный писарь (подпоручик Шубин), артельщик (поручик Орлов) и каптенармус (поручик Алексеев). Мы оживленно делились впечатлениями прошедшего дня… На лицах после всего пережитого было как-то особенно радостно…
P. S. На этом я кончаю свои воспоминания за действительность которых я ручаюсь. хотя у меня и получается большая разница с воспоминаниями И. Лукаша. В дальнейшем деятельность покойного Павла Михайловича происходила более на виду у всех нас, а потому ее кто-нибудь сможет описать более выпукло и отчетливо, чем это я здесь сейчас пытался сделать.
Болгария
2 мая 1934 г.
Л[еонид] А[ндреевский]
https://rusk.ru/st.php?idar=117654
|
|