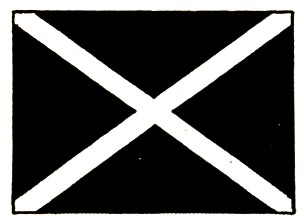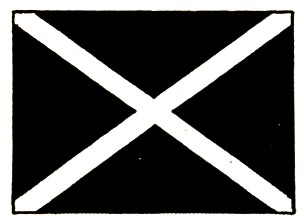 |
| Марковский полковой значок |
Юрий Александрович Рейнгардт
Прохождение службы
1-го февраля 1917 г.
Поступил в Александровское военное училище 1-го июня 1917 г.
Произведен в чин прапорщика 15-го июня 1917 г.
По особому ходатайству выехал на фронт, не быв в запасном батальоне.
Прибыл в 175-й Батуринский полк и назначен младшим офицером в 8-ю роту (пехота).
15-го июля 1917 г.
Назначен временным и.о. начальника команды траншейных орудий.
Конец августа 1917 г.
Утвержден в должности начальника команды траншейных орудий.
Ноябрь 1917 г.– отбыл на Дон в первых числах месяца 13-го ноября 1917 г.
Попал в отряд есаула Чернецова 14-го декабря 1917 г.
Прибыл в 5-ю сводную офицерскую роту 15-го декабря 1917 г.
При разворачивании роты в 1-й офицерский батальон, был зачислен в третью роту капитана Пейкера.
Начало января 1918 г.
Переведен в железнодорожную бригаду (поручик Лысенко) машинистом локомотива связи штаба по линиям Ростов – Батайск, Ростов – Таганрог.
По оставлении Таганрога переведен обратно в 3-ю роту 1-го офицерского батальона.
13-го февраля 1918 г.
При образовании 1-го Офицерского полка, вместе со всем батальоном ставшим 1-й ротой (полковник Н.Б. Плохинский) был зачислен в 3-й взвод.
В рядах этой роты участвовал в Первом походе, во Втором, очищении Северного Кавказа и Каменно-Угольного района до ст. Енакиево, не занимая никаких командных должностей.
11-го февраля 1919 г.
После взятия Енакиево, назначен в Отряд особого назначения (полковник Федотьев): охрана Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича.
1-го апреля 1919 г.
Переведен в роту Ставки Главнокомандующего.
Май 1919 г.
Вернулся в полк и назначен начальником команды разведчиков 4-го батальона.
Июнь 1919 г.
При разворачивании полка в дивизию в городе Белгороде, назначен помощником командира 10-й роты.
Август 1919 г.
Назначен командиром 8-й роты.
В этой должности оставался до окончания Гражданской войны.
В Крымский период неоднократно временно командовал батальоном.
Знаки отличия:
Знак отличия за Первый поход, орден Николая Чудотворца.
Ранения:
18 августа 1917 г. под мызой Эрик разрывной ручной гранатой в ногу.
3 октября 1917 г. под замком Кейпен пулевое ранение в плечо.
15 марта 1918 г. в Ново-Димитриевке разрывной пулей в лицо.
25 марта 1918 г. под Григоре-Афинской пулевое ранение в правую руку.
30 марта 1918 г. под Екатеринодаром пулевое ранение в левый бок.
Начало мая 1918 г. под Сосыкой (ст. Павловская) тяжелое пулевое ранение в живот.
Июль 1918 г. под Тихорецкой, под Пласуновкой, под Горой Недреманной, под Медведовской (Ставрополь), под Енакиево под ст. Борки, под Ольгинской.
15 апреля 1920 г. дважды за Перекопом.
25 мая 1920 г.
Примечание: Участие в Добровольческой белой армии начинается с прибытия на Дон, в Алексеевскую организацию.
Штыковой бой
Скромная красная Анненская ленточка, кончающаяся, некогда серебряной, а ныне почерневшей от времени кистью. Реляция: "За штыковой бой". С невольной улыбкой рассматриваю я зарисованную в памяти картину.
Подходящая и уже недалекая осень бросила разноцветную пастель на листву кустов и деревьев и заволокла легким туманом свежий утренний воздух. Мне приказано произвести разведку и выяснить расположение немцев в разделяющем нас густом лесу, по ту сторону которого находится широкое озеро. За ним, согласно моей двухверстке, пологий подъем всходит до проезжей дороги, а за нею снова начинается лес. Это было где-то в треугольнике Зегевольд – Венден – Нейи.
Взяв с собою двух унтер-офицеров и два десятка солдат, я направился через лес к озеру, рассчитывая, с его берега, увидать противоположную сторону и, может быть, оттуда выяснить немецкое расположение. Недавно прошедшие обильные дожди окончательно размягчили и без того сырую почву, и легкий треск попадавшихся под ноги мокрых сучьев не выдавал наше присутствие. Внезапно взлетевший глухарь, или испуганный нами олень мало беспокоили нас, являя собой обычные голоса жизни леса.
Как только, сквозь кружево зелени, голубоватым мазком проглянула поверхность озера, я, с унтер-офицером Афониным, тихонько пополз к берегу, оставив в чаще остальных. Там, на противоположном берегу, в полуверсте от нас, были немцы. Несколько человек, сидя у самой воды, ловили рыбу, другие стирали белье. По проходившей по скату дороге тянулась артиллерия. На скате расположились отдельные люди – многие без шинелей и оружия. Эта мирная картина, эта беспечность немцев с очевидностью указывали на то, что такая роскошь могла быть позволена при условии надежного охранения со стороны леса. Тревожащий характер этого открытия вполне разделял со мной и Афонин. Поставленная нам задача требовала выяснения мест немецких застав.
Тот, кто знаком с работой разведчиков знает, что они – глаза и уши армии и что успех их работы заключается не в открытом столкновении с противником, а в необходимости остаться незамеченными при выполнении поставленной им задачи, одновременно являющейся гарантией их безопасности.
На моей двухверстке усмотрели мы единственную проходившую по лесу дорогу, отметили выбранное нами для наблюдения место и двинулись к нему со всеми предосторожностями. Избранный по карте пункт оказался, в действительности, ещё лучше чем предполагалось: густые кусты калины, боярышника, орешника, оплетенные по низу длинными колючими стеблями дикой малины, создавали глухую стену с неглубоким рвом впереди, тоже заросшим высокой травой, с протиснувшимися в нее жгутами ежевики. В пяти шагах, прямо перед нами, проходила лесная дорога, с глубокими колеями заполненными водой. Лежа в густых зарослях, мы могли видеть её на протяжении 20-ти саженей, так как, уходя в сторону немцев, она слегка сворачивала, а ведя к нашим, скрывалась из вида за сильно выдвинувшимися вперед кустами орешника.
Главная доблесть разведчика – терпение и напряженное внимание, которым мы и отдались. Ждать пришлось недолго. Вскоре послышалась немецкая речь, и мимо нас прошел немецкий дозор из семи человек. По их громким голосам было ясно, что они считают себя в полной безопасности и не считают нужным принимать меры предосторожности. Минут через двадцать они прошли обратно. Отсутствие их продолжалось целый час, после чего они снова появились и снова вернулись через те же двадцать минут. Трижды пропустили мы их мимо себя. То, что немецкая застава находится где-то поблизости и, вероятно, у края дороги уже не могло быть подвержено сомнению.
Как только прошел возвращавшийся назад дозор, унтер-офицер Афонин перебрался в кусты орешника, закрывавшего вид на дорогу, где и остался наблюдать. Хорошо помню, что взглянув на часы, я увидел, что стрелки показывают без четверти час и, почти в то же время, услышал шум приближавшихся голосов. Около 30-ти человек немцев прошло мимо нас. Они шли гуськом, стараясь избежать шлепанья по воде и держась на хребте противоположной обочины. Впереди шел офицер, о чем-то разговаривающий со следующим за ним унтер-офицером.
Разведка или смена заставы? Разрешение этого вопроса не заставило ждать себя долго. Не прошло и получаса, как прошли назад 30 человек, но не те что прошли раньше. Тех вел офицер высокого роста, этих же – маленький и толстый. Смена!
Когда снова появился патруль и, затем, снова вернулся, неожиданно возле меня оказался Афонин.
– Господин прапорщик, немецкая застава шагов 50 впереди, за этими кустами. Два часовых на дороге. Шесть человек ходили сменять секреты на нашей стороне. Должно быть столько же и по другую сторону. Дозоры у них конечно тоже есть. Стало быть, на заставе не больше 15-ти душ. Не захватить ли? Пулеметов у них нет. Если сзади подойти? И нам назад легче уйти будет.
Причины, по которым я дал уговорить себя, зиждились на том, что моему земляку Афонину, с которым я был знаком с детства, я верил больше чем самому себе, а также и потому, что обратное возвращение грозило обратиться в катастрофу.
Итак, мое войско было разделено на две части. Мы с Афониным и десять солдат должны были атаковать заставу, а унтер-офицер Мымрюк, с остальным десятком, должен был выйти к повороту дороги, прикрыть наше нападение в случае неожиданного появления немцев с тыла и, перейдя дорогу, отходить в направлении атакованной нами заставы.
До начала нашей атаки, всё произошло так как и предвидел Афонин. Немецкая застава располагалась на небольшой пролысине, шагах в 20-ти от дороги. Из кустов я наблюдал предмет моего вожделения: немецкого офицера. Он склонился над, стоявшем на небольшом костре, чайником и, казалось, что сама судьба делает его легкой добычей. Увы, жизнь показала совсем другое!
Когда, с громким криком и со штыками на перевес, мы бросились из кустов, то офицер исчез из моего поля зрения, а всё мое внимание обратилось на бегущего солдата, которому я и бросился наперерез. Тот увидел меня и, изменив направление, поскакал в лес. Я за ним. Мы неслись, разделенные четырьмя шагами. Более молодой, я догнал его и, выбросив вперед винтовку, надеялся проколоть ему спину. Мой удар в защищенную вещевым мешком спину немца имел неожиданный результат: штык не проколол мешка, а только толкнул немца в спину, отчего он побежал быстрее, а я, остановленный выпадом, принужден был догонять его ещё раз. Так и бежал я за ним, повторяя один и тот же прием, имевший один и тот же результат.
После трех-четырех раз, я вдруг впервые заметил, что мой противник не имеет никакого оружия и, очевидно, никакого другого намерения кроме стремления бежать всё равно куда. Следующая, пришедшая в голову ясная мысль явилась в форме вопроса: зачем я бегу за ним? Тогда я остановился, переводя дыхание и едва сдерживая душивший меня смех. Мой немец тоже остановился, сел на землю, выгнув колесом спину и закрыв обеими ладонями уши, представляя собою фигуру полного отчаяния. Я подошел к немцу и сел рядом с ним. Не знаю, слышал ли я биение собственного сердца, но то что слышал стучало чрезвычайно ясно. Немец не менял своей позы.
– Не бойся, сказал я ему, я не сделаю тебе никакого зла.
Услышав немецкую речь, немец взглянул на меня но, увидев перед собой русского офицера, снова закрылся руками. Некоторое время мы сидели молча. Я произвел ещё несколько попыток заговорить с ним, но он или не слышал, или не был в состоянии отвечать. Так и застал нас разыскивавший меня Афонин. Этим и кончился "штыковой бой"!
Возвращение наше было триумфально. Во-первых, мы привели восемь человек пленных. Во-вторых, не имели никаких потерь. А в-третьих, Афонин вынул из немецкого пулемета Шварцшлозе замок и, ударом приклада, исковеркал кожух пулемета. Что же касается меня, то, откровенно говоря, я даже не видел где стоял пулемет, как и не понял, куда исчез немецкий офицер. Среди пленных его не было.
Весь проведенный нами "штыковой бой" больше напоминал детскую игру в догонялки, так как ни у одного из взятых пленных не оказалось никакого оружия, брошенного ими во время бегства. На мой недоуменный вопрос; почему они не оказали сопротивления, один из пленных ответил: "Я, абер ди Руссен зинд ганц шреклихе лейте!"(Да, но Русские такие страшные люди!)
Страх
Два одинаково сильных чувства владеют существом человека: Любовь и Страх! Казалось бы противоположные, они не могут обойтись друг без друга и будто восполняют одно другое. Оба чувства имеют и бесконечные оттенки и степени.
И нет ни одного чувства, которое не хранило бы в себе зародыш Любви и Страха. И это одновременно. Если мы рассмотрим любое чувство: долга, ответственности, ненависти, одиночества и т.д., то неизбежно откроем в них искомые нами элементы Любви и Страха. Но где-то, на своих высших ступенях, они исключают возможность идти рука об руку и властвуют единоправно.
И вот один такой всепобеждающий Страх пришлось испытать и мне. Конечно, это не был реальный страх. Это был Страх мистический!
Ещё шестилетним ребенком, я впервые познакомился с мистическим страхом, когда продал ночью, на перекрестке двух дорог, черту черного кота Ваську или, год спустя, отправился ночью в лес рвать цветок папоротника. Позже, подростком, на пари, приносил с кладбища оставленный там носовой платок. Обожал баллады Уланда и всякую "чертовщину". И кончил тем, что ничему больше не верил. Юношей – был готов на всякие головоломные предприятия и любил ощущение победы над испытываемым мною страхом. Одним словом, робким я не был.
К моменту поступления в армию, умение побеждать страх обратилось для меня в некий спорт, доведенный мною до совершенства. Это было нечто похожее на употребление одуряющего средства, дающего мне полное удовлетворение. Описывая характер декабриста Лунина (в романе "Бесы"), Ф.М. Достоевский указывает на его постоянное стремление побеждать в себе страх, обратившееся в необходимость нарочно искать опасных положений. Вероятно, нечто подобное произошло и со мной.
Такие эпитеты как "храбрый", "бесстрашный", отпускавшиеся по моему адресу моими соратниками, не выдерживали критики самоанализа. Приятно, но верно ли? Если храбрость есть способность побеждать в себе страх, то конечно я был храбр. Но уж "бесстрашным" – никогда не был! Это состояние – или вернее его отсутствие – было знакомо мне и, пожалуй, в гораздо большей степени, чем большинству моих соратников, которым не приходилось бывать в тех положениях, что выпали на мою долю. Вообще, я был тем, чем был и не стремился казаться тем чем я не был.
Достаточно подробно разбирая владевшие мною чувства, я делаю это потому что хочу понять, каким образом я мог оказаться в положении близком к сумасшествию, под влиянием испытанного мною страха? Именно "страха", а не ужаса, кошмара, или сильного внезапного испуга. Нет! Только медленно наползающего, все разрастающегося, непобедимого, мистического Страха! Вторая половина сентября 1917-го года. Второй батальон 175-го пехотного Батуринского полка, после короткой "заворожки" (назвать это боем нельзя), занял замок "Кейпен". Противник – 18-й драгунский полк немцев – отошел в замок "Ватрам", в двух или трех верстах.
Заняв "Кейпен" и выставив заставы, батальон Батуринцев расположился на отдых. Офицеры занялись игрой в "преферанс". Штабс-капитан Базлов зарвался при покупке и рисковал остаться без трех. Его безнадежное положение было спасено внезапно появившимся адьютантом, который передал мне приказание командира батальона, полковника Негребецкого, "прекратить кощунственный грабеж склепа", производимый солдатами. Игру пришлось оставить.
Вооружившись моим тяжелым автоматическим пистолетом "Кольт", получив от кого-то из офицеров маленький электрический фонарик и взяв со стола коробку спичек, я вышел из замка и направился в парк, где, в нескольких сотнях шагов от замка, находился фамильный склеп баронов Левис оф Менар.
Парк, который некогда был парком, а теперь обратился в простой участок леса, с заросшими травой дорожками, погибшими цветниками, необстриженными деревьями и даже кое-где появившимся папоротником, тем не менее сохранял сказочную красоту. Когда я вышел наружу, порывы сильного ветра наносили волны дождя, а высокие деревья тревожно шептались своими вершинами, дополняя любимую мною картину подошедшей осени. Без единой жуткой мысли шел я к склепу, наслаждаясь окружавшей меня природой. А наступившая ночь придавала всему еще и особую, необъяснимую прелесть.
Фамильный склеп, куда я теперь направлял свои стопы, представлял из себя продолговатый курган – но может быть и вал – увенчанный крестом. С трех сторон скрытый насыпанной землей, он имел, со стороны выходившей в глубину парка, замурованную кирпичную стену, в полтора человеческого роста высотой и около сажени шириной. Проникнуть в склеп с трех сторон кургана не было никакой возможности, так что единственным входом могла быть только замурованная стена. К ней я и направился.
Мне даже не понадобилось зажечь мой электрический фонарик: черным пятном зиял невысокий и неширокий пролом в кирпичной стене. Я подошел к нему и крикнул: "А ну, ребята, не хватит ли бузить? Вылазь!"
Ответа не последовало. Мое повторное предложение тоже не увенчалось успехом. Недолго раздумывая, я влез в пролом и оказался в полной темноте склепа. Приготовил пистолет и зажег электрический фонарик. Слабенький свет скользнул по монументальным каменным саркофагам, стоявшим у правой стены склепа. Перевел свет влево и увидел ту же картину. Картину величайшего спокойствия! В это время у меня не было и проблеска страха.
Но то, что могло подействовать на меня – это был тяжелый запах разлагающегося тела. Запах этот исходил из открытого алюминиевого гроба, на дне которого я разглядел маленький и уже оголенный человеческий череп, какую-то гнилую кучу тряпья и небольшое бурое пятно, источавшее убийственный запах тления. Крышка гроба лежала слегка в стороне. Остатки некогда имевшихся на ней украшений, в виде алюминиевых ангелочков (Рафаэля), ясно виднелись на ней. Исчезли эти ангелочки и с боков гроба, равно как и алюминиевое Распятие, находившееся на крышке и оставившее только след своего пребывания. В точно таком же гробу, в 1905-м году, хоронили мою мать, а я – семилетний ребенок утешаемый отцом – верил что, окруженной ангелочками, маме будет теперь очень и очень хорошо! И такой гроб я узнал сразу!
Однако невыносимый запах заставил меня идти в глубину склепа. Освещая каждый саркофаг, я медленно двигался вперед, пораженный никогда не виданным мною зрелищем.
Данный мне электрический фонарик, мало того, что был слаб, но и вскоре обратился в слегка тлеющую папиросу. Тогда мне пришлось прибегнуть к спичкам. И если до сих пор я не испытывал ничего исключительного, то с этого момента все изменилось. Зажженная мною спичка осветила один из саркофагов. Его крышка была сорвана, а находившийся в нем гроб оказался пустым. Неровное горение спички погнало по углам саркофагов потревоженные тени. Не могу сказать, что мне представилось, но отсутствие трупа поразило мое воображение.
Потушив спичку, я долго сидел в полной темноте, с зажатым в руке пистолетом, ожидая чьего-то нападения, которое не произошло Дальше? Дальше во мне еще оставались проблески сознания и, держа себя в руках, я продолжал осмотр склепа. Но второй пустой гроб был достаточен, что б ужас окончательно овладел мною. Моей последней сознательной мыслью было: "Надо возвращаться, грабителей в склепе нет!"
Но выйти из склепа я уже не мог. Не было во мне больше ни сил, ни решимости. И до тех пор, пока оставалась последняя спичка, я обходил склеп, пугаясь перемещающихся теней и не рискуя приблизиться к пролому в стене. Но вот погасла и последняя спичка. Меня окружила полная темнота. Явление Дантова ада: гнилая сырость темноты, пропитанной смрадом разлагающаяся трупа!
– "Уйди! Уйди!" твердил мне какой-то внутренний голос. Но я не мог уйти. Я – уже не я. Как я уйду? Сумасшедшая, ненормальная мысль владела мною: если я полезу головой вперед, "кто-то" или "что-то", схватит меня сзади!
И все же я вылез. Вылез задом вперед, держа перед собой мой "Кольт", вероятно угрожая исчезнувшим покойникам. В каком виде появился я перед моим денщиком Крюковым, я не помню, но на следующий день узнал, что он "отговаривал меня на святой воде"!
Продолжение этой истории, хотя не имеет отношения к пережитому мною страху, всё же не безынтересно.
При нашем выступлении из замка "Кейпен", где нас сменила 3-я дивизия, мне пришлось вернуться во второй батальон много позже, так как находясь в должности "временно исполняющего обязанности начальника команды траншейных орудий", я должен был ожидать смены моих минометов, бомбометов и пушечек "Гочкиса". Присоединившись к батальону уже за замком "Ватрам", оставленным немцами без боя, я начал обходить позицию занятую батальоном, разыскивая наиболее выгодные места для употребления своих машин, предназначенных для массового избиения противника.
И вот, на линии наших индивидуальных окопчиков, я заметил стоявшего во весь рост человека. Кому и зачем понадобилось это нелепее фанфаронство? Подойдя ближе, я увидел мумифицированный труп, подпертый со спины палкой. Один из пропавших из гроба покойников!
Пять или шесть революционно настроенных солдат, находившихся позади в большой, вырытой ими яме, пытались успокоить мое возмущение: "Да яму ничаво! Он усе равно померший!"
Мое указание на то, что стоящий во весь рост человек может привлечь внимание немцев и вызвать огонь их артиллерии и, кроме всего прочего, определяет линию наших позиций, не произвело на них ни малейшего впечатления, пока просвистевшая над головой и разорвавшаяся близко шрапнель, не убедила их в справедливости моих опасений. Мумия была снята, а вскоре затем подверглась сожжению.
Вечером, при возвращении в команду, мой денщик преподнес мне алюминиевую ложку. Как выяснилось из его слов: "У четвертой роте их цельную кучу напекли". К этой ложке я не притронулся!
Юность
Кто из читающей молодежи не сходил с ума над, вышедшей в 1912 году повестью Евгения Николаевича Чирикова, "Юность"? Кто из гимназисток старших классов не воображал себя героинями этой повести? Которой из них не задавал я один и тот же вопрос: "Катя! (или другое имя), скажите, Вы тоже Калерия?" Развелось тогда этих Калерий по всей России больше чем блох на дворовой собаке. И конец этих Калерий наступил так же скоро, как и их появление: они потонули как-то сразу, захлебнувшись в собственном множестве. Обратились в толпу и растоптали друг друга. Тогда изменился и мой вопрос. Теперь он звучал иначе: "Скажите, Маня (или Катя), Вы ведь – раздавленная Калерия?"
Эти вопросы, как в первоначальной, так и в последующей редакции, доставили мне множество врагов, доходивших, в своей ненависти ко мне, до кровомщения. А между тем я, как и все другие мои сверстники, был также без ума от этой повести, от ее свежести и радости бытия, сквозящих в каждой строчке. Но не идеал искал я себе в ее героях. Сам я, раз и навсегда, был побежден давно выбранным мною героем, конечно тоже книжным и, конечно, только потому и избранным, что он не походил на меня ни капельки. Юность!
Прошло 50 лет. В Америке вышла "Юность" и я прочел ее снова. И снова ощутил то же, что и 50 лет тому назад, только теперь она развилась во мне таинственным образом, связавшись с моей жизнью, и прочно воцарилась в моей памяти. Я встретил Калерию! Нет, это не была героиня повести. Это была одна из многочисленных "раздавленных" Калерий. Одна из тех, кто больше всего возненавидел меня за ехидство моего вопроса.
Наша встреча состоялась в самом неожиданном месте и в самой невероятной обстановке. Я только что прибыл в Новочеркасск и шел по улице, разыскивая Алексеевскую организацию. Нигде на вокзале, стены которого пестрели афишами всевозможных формирующихся отрядов самого фантастического характера, не нашел я никаких признаков ее существования. Поднявшись к собору и рассчитывая найти хоть кого-нибудь, кто мог бы указать мне ее местонахождение, я обратился к шедшему мне навстречу офицеру. Мой, далеко не презентабельный, вид а, может быть, и скромная боязливость вопроса позволили спрошенному мной офицеру, не только не ответить на мой вопрос, но и выразить свое отношение к происходящим событиям: "А Вам очевидно делать нечего? Убирайтесь-ка Вы скорее вон отсюда!"
Злоба, прозвучавшая в его голосе, и поразила меня, и заставила быть более осторожным. Уже обращение на "Вы" указывало на то, что спрошенный мной не только не сочувствует начинающейся организации, но и враждебен ей, а, кроме всего прочего, угадал во мне офицера. Мое тяжелое положение усугубляюсь еще и тем обстоятельством, что в моем кармане – если бы он существовал, а не представлял собою изорванную тряпку – могли только находиться или вошь на аркане, или блоха на цепи и, также как и я, лишенная намека хоть на какой-нибудь документ. В начинающихся сумерках угрожающе стали сгущаться тени моей ситуации: "Куда пойдешь?", "Кому скажешь?"
И вот тут-то и произошла эта роковая встреча. Навстречу мне шла худенькая женская фигурка, с маленьким чемоданчиком в правой руке. Я шагнул к ней, она слегка попятилась и посмотрела на меня с нескрываемым испугом, остановилась и прижалась спиной к живой изгороди. Желая успокоить ее, я протянул вперед руку, делая успокоительный жест, но она видимо не поняла его и вытянула вперед руки с зажатым в них чемоданчиком, как бы желая защититься им от меня. Посреди неширокой крышки отчетливо сияла эмблема Красного Креста. Я и до сих пор не знаю, кто из нас был более испуган: она или я?
– Сестра, ради Бога, где находится Алексеевская организация? – громко крикнул я, боясь, что она бросится бежать. Но она опустила свой чемодан и быстро шагнула ко мне.
– Не так громко, – тихо сказал она, – Вас услышат. Ступайте прямо. Это здесь, совсем близко – в лазарете. "Вы…", – с видом заговорщицы шептала она скороговоркой, "Вы" и сразу оборвала. "Вы?", – смотря на меня во все глаза, вскрикнула вдруг – "Вы?"
– Валя!
– Да, да, это я, и Вася тоже здесь, он там в лазарете! Идемте, идемте скорее!
Валя довела меня до дверей лазарета, не переставая болтать всю дорогу, оказавшуюся чрезвычайно короткой. Из ее рассказа я узнал, что она вот уже семь дней в Новочеркасске, работает сестрой в госпитале Донских врачей, что добровольцы должны скрываться под видом раненых и что их, может быть, выдадут большевикам, что она носит свой маленький чемоданчик с красным крестом для того, что бы на нее не напали, что брат ее, Вася, приехал с ней, но что она больше его не видала со дня приезда. У дверей лазарета мы распрощались. Мое предложение проводить ее она отклонила, испуганно сказав: "Да Вы с ума сошли!"
– Валя, – улыбнулся я ей на прощанье, – А ведь Вы больше не Калерия!
И в первый раз, с момента нашей встречи, веселая улыбка озарила ее юное личико. Она передернула плечами, хотела что-то возразить, и вдруг засмеялась:
– Да ведь и Вы больше не Николай Ставрогин!
Я посмотрел вслед ее удаляющейся фигурки и подумал: "Оса!" Почувствовав на себе мой взгляд, она обернулась в последний раз и исчезла в темной уже улице. Я открыл дверь и вошел в лазарет.
Сведения, сообщенные мне Валей, хотя и были сильно преувеличены, однако имели и большую часть истины. Условия личной безопасности, после разоружения Новочеркасского гарнизона, изменились в лучшую сторону и мы были переведены в казармы.
В первый же день, на вечерней поверке, я невольно обратил внимание на вызывавшиеся имена моих соратников. Все известные имена героев войны 1812 г. звучали в моих ушах, имена – знакомые с детства: путешественников, писателей, поэтов, судейских, министров и т.д., вперемешку с простыми, исконными, русскими именами. Но одно из них привлекло мое особенное внимание:
– Доброволец Чириков, Евгений!
– Здесь!
Сейчас же, после поверки, я подошел к командиру 4-й роты, поручику Кромм, и попросил его указать мне добровольца Чирикова.
– Женя! – окликнул Кромм стоявшего неподалеку подростка. Тот подошел ко мне и вытянулся демонстративно-подчеркнуто в струнку.
– Вы не родственник Евгения Николаевича Чирикова?
– Это мой папа.
– А Евгений Николаевич в Черкасске?
– Нет, сейчас он в Москве, но он должен приехать сюда.
Но мне не удалось встретиться с Евгением Николаевичем. Армия ушла в Первый Кубанский Поход. Не видел я больше и Валю. Она осталась в госпитале. Брат ее был убит под Усть-Лабинской.
При реорганизации армии, 4-я рота стала 4-м взводом в 1-й роте, где, в 3-м взводе, находился и я. Изредка в походе мне приходилось встречаться с Женей Чириковым, но почти за весь поход не перемолвиться ни единым словом. Да и не до слов тогда было!
Но вот и Екатеринодар. Кончилась переправа на пароме, у станицы Елизаветинской. 1-ый Офицерский полк присоединился к штурмующим город частям.
Впереди невысокого вала, окружающего только что взятым нами артиллерийские казармы, разметались на земле трупы убитых добровольцев. Но есть и раненые, беспомощно лежащие под ураганным огнем, отбившего последнюю атаку, противника.
"Безумью храбрых поем мы песню! Безумью храбрых – вот прелесть жизни!"
С укрывающего от огня вала бросается вперед поручик Кромм к лежащему в сорока шагах впереди раненому, хватает его и валится рядом. Теперь лежат они оба, в сотне шагах от "красных", обреченные на неизбежную смерть. Кто рискнет подать им помощь?
"Кому нелюба на плечах голова? Чье сердце в груди не сожмется?"
Не сжалось оно в груди добровольца 4-го взвода, Сережи Иевлева. Нет, скорее именно сжалось, скорбным воплем вырвалось из груди его и слезами покатилось по лицу. В припадке безумного отчаяния, закрыв руками голову, перепрыгнул он через вал и бросился к двум раненым. Добежал до них и упал рядом с ними. Убит? Ранен? Нет! Он схватил поручика Кромм, потом почему то бросил и, подхвативши подмышки другого, потащил его к валу, подобно муравью волочащему большую тяжесть, отступая задом и таща по земле товарища. И дотащил! Женя Чириков. А Иевлев уже снова бросился за вал и снова оказался рядом со своим взводным и, тем же приемом, потащил его к валу. Не дотащил. Упал! Опять вскочил на ноги и снова пытался тащить, но уже одной рукой. Кто-то бросился ему на помощь и, вдвоем, они доволокли Кромма. У Чирикова и Кромма раздроблены ноги, у Иевлева – рука.
Я ни одной минуты не сомневаюсь в том, что на моих глазах совершилось чудо. Как не были они убиты все трое? Как мог дважды добежать до них Иевлев и притащить самостоятельно одного из них? Это походило на то, как если бы кто-либо вздумал перебежать через улицу во время проливного дождя и остаться сухим, достигнув противоположной стороны. Да, это было чудо! Я не раз задавал себе вопрос: бросился бы я спасать их, если б имел тогда возможность? Хочу думать, что да. Впоследствии, уже под Орлом, я взял к себе Иевлева и всячески старался не пускать его в бой, тем более, что его раздробленная рука почти полностью потеряла способность двигаться. И каждый раз он оказывался возле меня, несмотря на мое категорическое запрещение.
Женя Чириков, также как и поручик Кромм, потерял ногу. Когда я спрашивал потом Иевлева, почему он схватил сперва поручика Кромм, а потом оставил его и вытащил первым Женю, то он ответил, что Кромм приказал сперва спасать Женю.
Одно за другим тянет свои неразрывные звенья длинная цепь воспоминаний. При отходе из Екатеринодара, Женя Чириков был взят на подводу, а Кромм, как безнадежный, оставлен в станице Елизаветинской. Я встретился с Женей в мае, в Новочеркасске, а с Кроммом, по окончании Второго Кубанского похода, в Екатеринодаре. Оба безногие. Но, до своего тяжелого ранения под Сысокой, я не имел ни малейшего представления об их судьбе. Она ушла из моего поля зрения и, до конца апреля, ничем не напомнила о себе. Но вдруг снова встала передо мною в полузабытом образе раздавленной Калерии и, спасенного Иевлевым, Жени Чирикова.
Первым видением осознанным мною было большое белое пятно, первым ощущением – прикосновение к моей руке чего-то приятно теплого. Потом какие-то неясные звуки коснулись моего уха и я понял, что кто-то говорит рядом со мною. Это я запомнил очень хорошо.
Быстро возвращающееся сознание объяснило мне, что большое белое пятно – это потолок, что кто-то держит меня за руку и говорит мне что-то, чего я не могу понять. Потом все вдруг начало качаться перед глазами, перестало и снова начало качаться. Все это казалось мне ужасно странным, но не было неприятно.
Но вот перед моими глазами стали появляться знакомые лица, смотревшие почему то на меня сверху вниз. Первый которого я знал, был капитан Миша Смиренский, потом поручики Недошивин, Успенский, капитан Стасюк, Женя Чириков. При виде Жени, сознание вернулось ко мне окончательно. Теперь я понял, что лежу на спине, на кровати, что очевидно это – госпиталь. Но как и почему оказался я здесь – не знал. Странным показалось мне и то, что меня окружали офицеры нашей роты. Моя память остановилась в тот момент, когда у Сысоки, передо мной вырос широкий фонтан взлетевшей черной земли, озаренный пламенем. Вспомнил я также, что не видел дыма и не слышал треска разрыва. А теперь госпиталь, а между ними – ничего.
(К сожалению, продолжение утеряно).
Мой взвод
Портреты
"…шли бойцы из железа
и стали
И как знали они, что идут
умирать
И как свято они умирали!"
На тускнеющем экране моей памяти еще ярко проходят картины эпохи Белой Борьбы и оживленная толпа фигурантов, из которых ни один не играл сколько-нибудь ответственной роли, но участие которых создавало яркий фон для следовавших, одно за другим, происшествий. Со своих, заранее распределенных мест, не могла эта толпа фигурантов охватить всего разворачивавшегося на огромной сцене, вмещавшей и степи, и горы, и леса, и реки, и большие губернские города, и малолюдные хутора и деревеньки.
Представляя собой лишь крохотную единичку в этой толпе, я и не собираюсь описывать ни общих картин, ни широких сцен, а только маленький кусочек, который был доступен моему наблюдению, из отведенного мне тесного уголка.
Нет, я хочу навсегда зафиксировать в моей памяти образ тех людей, с которыми судьба соединила меня и навек отвела им место в моем сердце. Не собираюсь я описывать их как каких-то исключительных героев, а только как простых людей, с их хорошими и плохими сторонами, а иногда лишь несколько черточек их характеров, или обстоятельств их жизни и смерти. Все они мне дороги. И все они – и живые, и мертвые – для меня живы. Эти наброски – последние цветы, приносимые на алтарь, воздвигнутый в их память!
Капитан Згривец
Ему лет 35, а может быть и более. В офицерский чин произведен за боевые заслуги. В 1-ой офицерской роте он занимает должность взводного командира. Образование начальное и вряд ли законченное. Среднего роста, сильное мускулистое тело, голова напоминает яйцо, с какой бы стороны на нее ни смотреть. На гладко выбритом лице – небольшие, коротко подстриженные усы. Гимнастерка сидит на нем аккуратно, но как-то по-солдатски, без офицерского щегольства. С нами он обращается строго и часто на "ты". В отличие от остальных офицеров взвода, для нас он не имеет имени и отчества, а всегда только: "господин капитан". В разговоры, происходящие между офицерами никогда не вмешивается, но постоянно тут же и внимательно прислушивается ко всему что говорится. Любопытен же до крайности. Если случается, что кто-либо из офицеров скажет что-нибудь, что ему не по душе, то сейчас же обрывает говорящего: "Ну, ты! Ты, слышь! Не того!" Взвод любит его, но никогда не упускает случая подсмеяться над ним. Но не прямо – это слишком опасно! Для этого выработана особая система, заключающаяся в том, что собирается кучка офицеров, начинающих нести невероятный вздор, как только появляется капитан Згривец и начинает прислушиваться, силясь понять о чем говорят. Не проходит и минуты, как все разражаются неудержимым хохотом. Капитан Згривец выпрямляется с видом оскорбленного достоинства и сейчас же приказывает чистить винтовки, "заместо что б языки чесать!"
Попав в его взвод, я никак не мог понять, каким образом этот, едва грамотный человек мог оказаться на командной должности. Ко мне, как и к остальным прапорщикам, он обращался исключительно на "ты" и это меня коробило. Невзлюбил же он меня с первых дней, главным образом за мою немецкую фамилию – "слышь, что там ни говори, а Лингварт всe-таки немец". А также за то, что во всех случаях коллективного издевательства, я был непременным участником.
Но не прошло и недели, как мне вдруг стало совершенно очевидно, что только, капитан Згривец, и никто другой из старших офицеров роты, не имел большего права и больших оснований командовать офицерским взводом в офицерской роте. Опишу этот трагический, хоть и неприятный для меня, случай.
Наш батальон стоял в то время на Барочной улице в Новочеркасске. Каждую ночь назначались офицеры для связи с другими частями, разбросанными по городу. Новочеркасск кишел большевиками и разложившимися казачьими частями. Офицеры, отправляемые для связи подвергались нападениям на пустынных улицах. Сперва случаи убийства их были редки, но потом нападения участились и, наконец, приняли угрожающие размеры. Связь почти прервалась. Трупы убитых офицеров-добровольцев на утро находили на улице. На патрули не хватало народа. Надо было найти способ самозащиты. Но как?
Собравшись в помещении роты, мы горячо обсуждали возможные меры. Капитан Згривец оказался возле нас, с любопытством прислушиваясь. Он, видимо, находился в чрезвычайном волнении, но не произносил ни слова. Потом, неожиданно, прошелся раза два между койками и, остановившись перед нами, вдруг сказал: "Ну вы, слышь, того…" Замолчал и опять зашагал, видимо что-то обдумывая. Опять остановился: "Ну вот, слышь. А я вам скажу!" Все молчали. Он страшно волновался, махнул рукой и опять зашагал. Наконец, очевидно решившись высказать свою мысль, подойдя к нам, произнес: "Потому, слышь, бьют, что мы не бьем!"
– Да как же их бить, когда они сзади нападают?
– А вы вот, слышь… вот как пойдет, возьми гранату в карман.
– Да, ведь, убивают сзади, из-за плетней, господин капитан, тут и граната не поможет!
– Ты, слышь, думай. Тебя оно, конечно, убили, и с гранатой, а она – механизм, она за тебя и их побьет.
– Это как же?
Предложение капитана Згривца заключалось в следующем. Посланный для связи офицер должен был идти без винтовки, с ручной гранатой в кармане. Граната, приготовленная для взрыва, должна была быть зажата в руке. В случае внезапной смерти, пальцы, без сомнения, разожмутся и отпустят рычаг, так что взрыв произойдет через секунду после смерти.
В первый момент, когда предложение капитана Згривца было понято, все замолчали. Поручик Паль, кажется, как всегда не совсем трезвый, резюмировал следующим образом: "Новый тактический прием уничтожения противника с того света! Не знаю, не пробовал". Все засмеялись.
Не помню, в тот же вечер или на следующий, связь была назначена от нашего взвода. Шел прапорщик Володя Алферов. В случае его смерти, должен был идти я. Алферов, 19-тилетний мальчик, хорошенький как ангелочек, чуть не последнего выпуска "Керензят", застенчивый и скромный, натянул на себя шинель, подошел к пирамидке с винтовками, постоял с минуту и, не взяв винтовки, направился в канцелярию, где находился Згривец. Через минуту он вышел оттуда и прямо пошел к выходной двери, за которой исчез. Згривец, вышедший за ним из канцелярии, посмотрел ему вслед и мы видели как он перекрестился.
Ей Богу, я не совру, если скажу, что вдруг что-то тяжелое, как бы давящее, разлилось по всему взводу. Офицеры сидели на койках, опустив головы. И вдруг, как будто в ответ на общее напряженное молчание, раздался недалекий, глухой взрыв. Первым, схватив винтовку, бросился вон капитан Згривец, за ним мы все. В сотне шагов от казармы лежал труп прапорщика Алферова. Неподалеку от него, мы поймали трех тяжело раненых большевиков и тут же прикололи. Четвертого, местного парикмахера, нашли час спустя у него в доме, по кровавому следу. Его расстреляли за тюрьмой. Алферова принесли в казарму. Труп его был страшно изуродован, одна нога едва держалась на обрывках мускулов. Голова была проломлена кистенем. Этот кистень мы нашли под плетнем позже.
Когда кончилась первая суматоха, Згривец обратился ко мне: "Ну ты, слышь, чего ж? Тебе в связь". Я оделся под явно враждебным взглядом Згривца. Этот враждебный взгляд я объяснил себе ложно, предполагая, что он подозревает меня в трусости. "Ну, погоди – думал я – увидишь, что я не трус!" И взял свою винтовку.
В ту же минуту Згривец подскочил ко мне. Глаза его горели, голос пресекался: "Ну ты, слышь… Это как же? Ты теперь это что же?" Я мгновенно понял свою ошибку и мне стало безумно стыдно. Поставив обратно винтовку и обернувшись к Згривцу, я сказал:
– Господин капитан, разрешите получить гранату.
– Ну вот то-то же, а то, слышь… И, не докончив, пошел в канцелярию роты, я за ним. Когда он достал из ящика, стоявшего под столом, гранату Мильца, то передал мне ее не сразу, а как будто колеблясь. Это колебание еще более смутило и оскорбило меня. Я протянул руку и почти сам взял у него гранату, вытащил из нее предохранительное кольцо и, положив его на стол, повернулся что бы скорее уйти.
– Я, слышь, может и не так… Ты, слышь, может тоже не того…
Я вышел.
Скажу, что с того дня, убийство офицеров связи прекратилось окончательно. А лично я, безумно полюбил Згривца. Уже после его смерти, в маленьком поминальнике, найденным в его гимнастерке, я видел на первой странице имя "раба Божьяго Владимира".
Первый бой Сводного офицерского батальона. Мы наступаем на станции Гуково. В открытой степи, по гололедице, бежит к станции наша рота. Капитан Згривец находится шагов на десять позади своего взвода, но к моменту подхода к железнодорожным посадкам, за которыми расположились большевики, он неожиданно оказывается впереди. С 50-ти шагов расстояния, он бросается на находящегося против нас красного пулеметчика, который не перестает строчить, и вдруг летит кувырком в снег. Огонь пулемета сосредотачивается на нашей небольшой группе. Чудится будто дышишь горячим воздухом. Мы слились с землей. Внезапно пулемет замолкает. "Задержка!", кричит Згривец, снова бросается вперед. Держа винтовку подмышкой левой руки, а кистью охватив ствольную накладку, он, действуя ею как тараном, закалывает красного пулеметчика. В происходящей затем рукопашной схватке, я, как сквозь сон, вижу Згривца на несколько секунд то здесь, то там, на платформе станции. Мне некогда присматриваться. Я вижу перед собой толпу большевиков, может быть десятка два, и только двух-трех наших, работающих штыками и прикладами.
Когда, наконец, кончился рукопашный бой и Згривец собрал свой взвод, то тут только выяснилось, что там, у посадок, пуля красного пулеметчика пронизала кистевой сустав его правой руки. Всю рукопашную схватку он провел одной левой, действуя и штыком, и прикладом. До самой его смерти, под Сосыкой, кисть его правой руки осталась неподвижной.
Немного спустя, собравшийся вместе взвод обсуждал перипетии боя. Кто-то высказал восхищение храбрости Згривца. Неожиданно вынырнувший откуда-то Згривец выступил вперед и, тыча себя пальцем в грудь, гордо сказал: "Ну, а как же! Я – офицер, а она – и отмерив большим пальцем конечный сустав своего мизинца, презрительно закончил – пуля!" Помню неудержимый смех охвативший нас всех. Згривец обиделся, выругался и отошел.
Но я вспоминаю об этом маленьком эпизоде для того, чтобы показать то огромное, что выросло из этого незначительного факта. А было вот что. Еще гремели отдельные, "ликвидирующие" выстрелы, когда ко мне подошел корнет Пржевальский и позвал меня за собой. Мы вышли за платформу и зашли в густые, железнодорожные посадки.
– У Вас есть индивидуальный пакет?
– Так точно.
– Перевяжите мне рану.
– Разве Вы ранены?
– Так, пустяки!
Он снял с себя шинель, скинул китель и стянул рубашку. Маленькое входное отверстие от пулевого ранения чуть-чуть кровоточило.
– Господин корнет, отчего Вы не обратились к Пелагее Иосифовне?
(Плохинская, сестра милосердия).
– А Згривец к кому-нибудь обращался? – ответил Пржевальский.
Признать открыто превосходство капитана Згривца, для Пржевальского было невыносимо. Он, конечно, понимал, что у Згривца все вытекало как-то само собой, из самой его натуры. И вот он – корнет – тянулся за этой натурой, хотя не признался бы в этом даже самому себе.
Згривец – воспитатель? – с удивлением задал я себе вопрос. И ответил на него утвердительно. Да, он был им помимо собственного желания, тоже из самой глубины своей натуры и, вероятно, первый же изумился, если бы ему об этом сказали.
Не удивительно, что за всe пребывание капитана Згривца в роли взводного командира – он так и остался им до смерти – я не знаю ни одного случая грабежа или самой малейшей распущенности; я не знаю ни одного случая проявления не только трусости или заминки, но и просто нерешительности. В его взводе, от отделенного командира до последнего добровольца, царил его дух, и личность его импонировала всем.
(Продолжение описания капитана Згривца переходит в рассказ "Меврский оазис").
Прапорщик Быxовец
В рядах офицеров моего взвода, никто не выражал с такой отчетливостью и ясностью, как свой личный облик, так и принадлежность к породившей его среде, со всеми ее понятиями, речью, жестами, внешним обликом и традициями, как прапорщик Быховец. Одного взгляда было достаточно, что бы безошибочно распознать в нем семинариста, очевидно сына какого-нибудь захудалого священника, а может быть и дьячка. Его крепкая, но как будто обтесанная топором фигура, как нельзя лучше соответствовала определению – "не ладно скроен, да крепко сшит". В нем не было ничего безобразного, что могло бы притягивать нездоровое любопытство, как это часто случается при встрече с людьми с каким-нибудь физическим недостатком. Совсем нет! Скорее всего, его можно было назвать деревенским увальнем, с медленными движениями его физически неразвитого тела, но с присущей таким увальням медвежьей ловкостью.
Мне он почему-то напоминал Митьку из "Князя Серебряного", впечатление, усилившееся после того как я увидел его в бою, под Усть-Лабинской, где мы сошлись с "красными" в рукопашную. Быховец, плюнув в руки и ухватив за штык свою винтовку, начал приближаться к противостоящим нам "товарищам", скача как-то боком и приноравливаясь нанести сокрушительный удар. Кроме того, его сходство с Митькой подтверждалось его необыкновенным благодушием, в котором он не уступал, а может быть, даже и превосходил Митьку, и если даже не обладал сказочной силой последнего, то все-таки недалеко и отставал от него.
Лицо его принадлежало к типу тех лиц, которые не поддаются описанию: 13-е на дюжину. Но что невольно привлекало внимание – это выражение его глаз. Если правда, что глаза – зеркало души, то я бы сказал: душа, стоящая перед Богом. В его глазах было что-то, до того светлое, до того умиленное, до того покорное, что долго будут вспоминаться эти глаза.
Проведенный по окончании какой-то школы прапорщиков, чуть ли не за 15 дней до захвата власти большевиками, он, или плохо усвоил, или совсем не усвоил, хотя бы начатки военного искусства и признавался в этом с полной откровенностью, ничуть не обижаясь за сыпавшиеся на него замечания и частые взыскания.
Никогда еще не видавший фронта Великой Войны, не слыхавший свиста пуль, он сразу же оказался, в армии генерала Корнилова, среди офицеров "видавших виды". На мой вопрос, как ему удалось проникнуть на Дон, он, не вдаваясь в подробности, ответил: "а пришел". В то время, многие офицеры различно определяли причины, толкнувшие их на вступление в Добровольческую Армию, хотя, конечно, причина была одна и та же. Например, корнет Пржевальский утверждал, что он прибыл в Армию, потому что ему "надоели семячки" (подсолнечная шелуха), которые он считал олицетворением Революции. Быховец объяснял причину своего прибытия с поразительной ясностью: "защищать веру Христову".
Еще до 1-го Похода, Быховец приобрел довольно оригинальную известность в рядах своего взвода, благодаря одной, неизвестно откуда явившейся, привычке. Заключалась она в том, что при заряжении винтовки, он неизменно, вставив пятый патрон в ствол, осторожно спускал курок, пренебрегая предохранительным взводом. Результат бывал всегда один и тот же: стукнувшись прикладом о землю, винтовка посылала пулю в небо, а находившиеся по соседству офицеры, после первого испуга и недоумения, посылали весь известный им лексикон нецензурных слов по адресу прапорщика Быховца.
Начало этой серии Случайных выстрелов относится ко времени нашего пребывания в Ростове. Обыск на Темернике. По сведениям нашей контрразведки, прибывший из Петрограда большевистский комиссар скрывается в одном из домов, который окружил наш взвод. Приказание гласит: "быть на чеку!" и ничем не нарушать тишину ночи. 'Взять живым!" И вот, в самый патетический момент, раздается оглушительный выстрел. Поймали? Увы, этот выстрел не означает поимку: по еще не известной тогда причине, выстрелила винтовка прапорщика Быховца!
Задонье. Отделение третьего взвода несет караульную службу на электрической станции. Часовым в машинном отделении стоит прапорщик Быховец. Неожиданный громкий выстрел часового взбудораживает весь караул: нападение! Ничуть не бывало – выстрелила винтовка прапорщика Быховца. Однако, тогда же была выяснена причина столь самостоятельного поведения этого, вообще говоря, послушного оружия.
Первый Кубанский Поход. После очередного выстрела, вне всяких норм и понятий, взбесившийся капитан Згривец, после чудовищной угрозы "поставить под винтовку", назначил Быховца, вне очереди, внешним дневальным. Тот покорно снес наказание и утром, возвратившись в хату, поставил свою винтовку. В тот же момент, грянул выстрел! В другой раз, тоже возвратившись из внеочередного караула, опять таки понесенного за самостоятельное действие его винтовки, Быховец не успел еще поставить ее на пол, как Згривец овладел ею и открыл затвор. Из казенной части ствола выскочил находившийся в ней патрон, а курок был осторожно спущен!
Эта незыблемая верность самому себе была вознаграждена Згривцем переименованием прапорщика Быховца в прапорщика 'Пульни". Слово это происходило, по всей вероятности, от народного слова "пулять" – вместо "стрелять" – и срослось с Быховцем как нельзя лучше. Да и сам он находил его подходящим и не обижался.
Я не думаю, что он что-либо понимал в боях, но никогда не отставал и добросовестно подражал другим. Во время боя, ни одного чувства не изображалось на его спокойном и благодушном лице: ни страха, ни беспокойства, ни озлобления. Мне кажется, что его полное равнодушие к собственной судьбе покоилось на его глубокой вере. Во всяком случае, я неоднократно замечал, что перед началом боя он крестился, после чего бывал совершенно спокоен. По окончании, опять крестился.
В смысле боевого товарищества, мы нашли в нем достойного и верного соратника, за которого можно было положиться даже в самой тяжелой обстановке,
Бой кончен. Станица и станция взяты. Из списков наличного состава роты, ротный писарь прапорщик Пелевин – вычеркнул семь фамилий, поставил рядом с ними крест и своим четким почерком сделал надпись: "24-е марта, 1918-го года. Станица Григоре-Афинская."
Одной из фамилий была фамилия прапорщика Быховца.
Поручик Якушев
Среднего роста, в длинной шинели, в узких кавалерийских сапогах со шпорами и более высокими каблуками, он кажется выше и стройнее чем есть на самом деле. Офицер мирного времени, выпуска 1911-го года, фронтовик. Нашивок, означающих ранения, не носит, хотя и ранен уже много раз.
После последнего ранения, был переведен в 3-ий Заамурский полк, где и застала его Революция. Вместе со своим однополчанином, корнетом Пржевальским, прибыл на Дон и вступил в Алексеевскую Организацию в начале декабря 1917-го года. Его раннее прибытие в Новочеркасск, до установления большевистского контроля на железных дорогах, позволило ему сохранить свой офицерский вид, что выгодно отличало его от большинства офицеров 5-ой Сводной Офицерской Роты.
Его худое, конусообразное лицо, с большим прямым носом, украшено длинными остроконечными усами и тонкой бородкой, отпущенной из под нижней губы и спадающей ниже подбородка и придает ему разительное сходство с Дон-Кихотом. В зелено-серых глазах покой и точно спят скука и апатия. Слова его скупы и роняет он их редко, без раздражения, без повышения или понижения голоса, а как будто нехотя и то по крайней необходимости. По своим политическим взглядам – монархист, но в спор с инакомыслящими не вступает и вызвать его на спор на эту тему невозможно: свое не навязывает, чужого не желает. То обстоятельство, что он является заместителем отделенного командира, штабс-капитана Крыжановскаго, и таким образом старшим офицером отделения, не вызывает в нем никакого желания властвовать или стремления отличиться. Когда ему случается, или отдавать приказания, или передавать распоряжения по отделению, то делает он это очень своеобразно, не властно и требовательно как другие, а со спокойной скукой, как надоедливую обязанность.
В отношении его, поражают две необъяснимые на первый взгляд вещи: какое-то особенное уважение к нему со стороны взводного командира, капитана Згривца, и то удивительное обстоятельство, что офицер мирного времени, неоднократно раненный, он не только не имеет ни одной боевой награды, но и остается в том же чине, в котором застала его война 1914-го года.
Уже гораздо позднее, при выходе из Каменноугольного района на большую московскую дорогу, когда исчезли между нами чины, сменившиеся только нашими именами, Витя рассказал мне столь интриговавшую меня историю его непроизводства.
Где-то, в забытом Богом захолустье Полесья, стоял его полк. Скука, безвыходность положения, усугубляемая двадцатилетним возрастом властно требующим выхода энергии, стремление найти хотя бы отзывчивость, толкнули его на связь с замужней женщиной. И в один, очевидно не прекрасный момент, муж застал его в спальне своей жены. Два выхода оставалось Вите: выпрыгнуть в окно "в чем мать родила", или открытое объяснение. Он выбрал второе. Это объяснение закончилось смертью мужа и преданием суду Вити. Вскоре после того начавшаяся война 1914-го года бросила его на фронт, в качестве "находящегося под судом". В этом положении он находился до начала Революции. Отказавшись принести присягу Временному Правительству, он усугубил свое – и без того незавидное – положение.
Особое же к себе отношение капитана Згривца он объяснял тем, что он кадровый офицер, а капитан Згривец произведен из сверхсрочных фельдфебелей, навсегда сохранивших уважение к старому офицерству.
Впервые я видел поручика Якушева в бою под станцией Гуково, в рукопашной схватке с превышавшим нас в десять раз противником. В происходившей бойне не было ни времени, ни возможности остановить свое внимание на чем бы то ни было, да и собственная экзальтация исключала всякую возможность наблюдения. Мельком я видел его, то рядом со мной, то вдруг он оказывался в другой горсточке офицеров нашей роты.
Бой кончился. Трупы "красных" густо усеяли платформу станции и железнодорожные пути. Собравшиеся в небольшие группы офицеры обсуждали перипетии боя. Поручика Якушева среди них не было. Он стоял поодаль, с прапорщиком Быховцом и, заметив меня, подозвал к себе.
– Вот и Вы, прапорщик, неужели Вы не знаете, что бить прикладом винтовки не полагается? Посмотрите на Ваше оружие и достаньте себе другую винтовку.
Действительно, и у меня, и у Быховца, винтовки оканчивались отколотыми у шейки прикладами, обстоятельство, на которое я только теперь обратил внимание. Якушев не сказал нам более ни слова и направился, не торопясь, к стоявшему неподалеку взводному.
Корнет Пржевальский
Переход от станции Ольгинская до станции Хомутовская. Оттепель. Мокрый, тяжелый чернозем. Наша рота идет в голове. Дорога еще не растоптана и ноги уходят в густую черную кашу, откуда их с трудом вытягиваешь назад, с налипшей на них тяжелой грязью. Идти при таких обстоятельствах невероятно трудно. Но хуже всего приходится поручику Якушеву и корнету Пржевальскому. Их кавалерийские сапоги отнюдь не приспособлены к подобной прогулке. Прикрепленные к ним шпоры, погружаясь в липнущую грязь, вытаскивают на себе добавочный вес, в хороших три-четыре фунта, и бросают ее на их долгополые шинели. Прилипая к подолу, она образовывает нечто похожее на колокол. На каждом привале, они очищают ее снятыми с винтовок штыками. Но уже через десять минут после начала движения, все начинается снова. Со станции Хомутовская, оба выходят в обрезанных выше колен шинелях и расставшись навеки со своими шпорами. Они напоминают двух фантастических кузнечиков на длинных тонких ножках, с едва прикрытыми крылышками-фалдачками задами. При каждом шаге фалдачки поднимаются, благодаря высокому разрезу кавалерийской шинели, так что создается впечатление, что два коротких крылышка тщетно стараются поднять непосильную для них тяжесть.
15-ое Марта. Мелкий холодный дождь насквозь промочил шинели. Температура падает, дождь постепенно обращается в маленькие ледяные иголочки, больно бьющие по лицу, и покрывает одежду ледяной корочкой. Холодно!
Рота, сперва шедшая по дороге, внезапно сворачивает влево и идет в серую пустоту степи. Через час-полтора, неширокая – в 6/7 шагов – канава, наполненная бурлящей водой, преграждает дальнейшее движение. Обе стороны ее обсажены столетними, полусгнившими ракитами. Наш берег – пологий, противоположный представляет собою невысокий вал, что делает его выше нашего и исключает всякую возможность прыжка. Появившийся внезапно генерал Марков приказывает, или найти старую корягу упавшей ракиты, или выломать одну из стоящих. Старая коряга скоро найдена и общими усилиями брошена в воду посреди канавы. Теперь предстоит переправа в два прыжка: с берега на корягу и с нее на другой берег.
Бой 4-го марта под Кореновкой вырвал из рядов взвода подполковника Яковенко и прапорщика Нестеренко. Теперь, во главе взвода стоял я, а за мной корнет Пржевальский, так что честь открытия переправы предоставлялась мне, что я и проделал чрезвычайно эффектно, хоть и не без ущерба. Под тяжестью моего тела, возведенный нами шедевр строительного искусства перевернулся и я оказался в грязной воде, доходившей почти до пояса. Корнет Пржевальский не прыгнул, а просто вошел в воду и стал против меня, по другую сторону предательской коряги. Со своих мест, мы подавали руки переправлявшимся, а коленями удерживали ее в устойчивом положении. В течении всего перехода, закончившегося взятием станицы Новодмитриевской, Пржевальский был весел, много смеялся, как будто не чувствуя всей тяжести этого исторического дня. Никто не узнал бы в нем вышедшего из Ростова "Тонняги"(*)
Не выдержали 1-й Кубанский Поход щегольские кавалерийские сапоги Пржевальскаго. Ежедневно мокрая и наспех высушиваемая кожа их сгнила и в образовавшуюся дыру стремились выскочить пальцы его ног. Тряпки, предназначавшиеся для удержания подметок и закрытия дыр, плохо исполняли свою обязанность, и ему приходилось часто возобновлять эти перевязки. В этом виде я видел его бегущим в атаку на железнодорожную насыпь ст. Григоре-Афинской.
Екатеринодар. Взяты артиллерийские казармы. С окружающего их вала бросилась 1-ая рота на ближайшие дома города. 150-200 шагов. Но не пробежала и трети расстояния, смытая пулеметным огнем. Упал и бежавший впереди Пржевальский. Упал и не поднялся. Остался лежать там, где застигла его пуля. Вскоре, разрывом снаряда, его труп был отброшен в сторону и лежал, полузасыпанный землей, непонятно маленьким комочком.
(*) Прозвище это было по видимому дано Пржевальскому вначале, за томные и деланные манеры. После какого-то дела, описание которого утеряно, он изменился коренным образом. Привожу последние слова моего отца: " И показалось мне, что в выражении его лица что-то изменилось, исчезло то ненавистное мне выражение, которое делало его смешным и несимпатичным. В следующих переходах и боях, рядом со мною шел уже новый корнет Пржевальский".
Генерал Канцеров
Известие о назначении генерала Канцерова на должность начальника Марковской дивизии, в нашем 2-м полку, было встречено с большой осторожностью. Горький опыт назначения из Ставки Главнокомандующего мало располагал старых марковцев к неумеренному энтузиазму, а потому восторженные отзывы о нем офицеров, служивших под его командой на фронте Великой Войны, не могли рассеять общее выжидательное отношение к личности генерала Канцерова. Командиры батальонов, рот и начальники команд согласились на хорошо известной добровольческой формуле: приедет – увидим, повоюет – оценим.
Визит генерала не заставил себя ждать. Весь старший командирский состав полка был собран в просторной казачьей хате для представления новому Начдиву. Полковой адъютант, капитан Рексин, отправился доложить командиру полка, генералу И.П. Докукину, незамедлившему явиться совместно с генералом Канцеровым. Быстро прошла обычная процедура персонального представления. Каждому из нас генерал отпускал какой-либо комплимент, ясно указывающий, что новый Начдив уже имеет кое какие сведения о каждом из нас. Пережав все руки и истощив весь запас комплиментов, генерал Канцеров предложил всем сесть и обратился к нам с речью, в странном, как будто извиняющемся тоне: "Господа офицеры! В вашей прославленной среде, я – человек новый. Поэтому не взыщите, если я обращаюсь к вам с целью рассеять возникающие во мне недоумения. Наскоро ознакомившись с канцелярской частью, я, к ужасу моему, определил, что многое из того, что творится у вас, мне абсолютно непонятно!". И генерал беспомощно развел руками. С минуту дав нам возможность упиться этим жестом отчаяния, генерал неожиданно охватил свою голову руками и, стукая себя пальцем по макушке, горестно воскликнул: "И вот ведь голова! 35 лет провел я на военной службе, а все еще не всегда и не все понимаю! Господа, помогите мне!", – трагически простер он вперед руки.
На лицах собравшихся офицеров можно прочесть недоумение и растерянность. Ерзает на своем стуле командир 1-го батальона Я.Д.Борцов, а его помощник, И.П. Селецкий, больно давит мне ногу, вероятно пытаясь изменить выражение моего лица, которое он считает, в данной обстановке, неуместным. Начальник учебной команды, капитан Володя Царев (по прозвищу "Облом"), мрачно уставился в пол и не шевелится, считая себя бессильным оказать помощь Начдиву. Но тут-то и "зарыта собака", так как испрашиваемая Канцеровым помощь зависит именно от Володи.
– Капитан Царев! – обращается генерал к подпрыгнувшему от неожиданности Володе. Высоко подняв над головою какую-то книжонку и поворачиваясь во все стороны, Канцеров продолжает: "Объясните мне, пожалуйста, какие чины существуют в Вашей учебной команде? Что за чин – "дегенерат"? Представьте, совсем не помню!"
Увы! Трагические восклицания и жесты Начдива внезапно принимают для меня несколько тревожное значение. Но, пока, знаем об этом только я, Володя и Канцеров; все же остальные продолжают считать нового начальника душевнобольным.
Смущенный генеральским вопросом, капитан Царев молчит, переминаясь с ноги на ногу. А дело просто: несколько дней тому назад было приказание назначить двух лучших солдат в учебную команду от каждой роты. Получив это приказание, я, после совещания с моим фельдфебелем, отправил Володе двух полукалек: одного хромого, а другого – с искривленным позвоночником, возвращенных мне на следующий день, с надписью в рассыльной книге: "Двух присланных дегенератов возвращаю. Кап. Царев". Потерпев фиаско в моем желании избавиться от ненужного мне элемента, в той же книге я поместил и мою разочарованную сентенцию: "Двух возвращенных дегенератов, с душевным прискорбием, принял обратно. Кап. Р."
Теперь эта рассыльная книга, поднятая на всеобщее обозрение над головой генерала Канцерова, и вызвала поразительное начало генеральской речи. Не получив ответа от Царева, Канцеров возжаждал объяснения от меня. Я указал на то, что уход из строя, да еще двух лучших солдат, ослабляет и без того малочисленную роту и, в нашем положении, вообще невозможно. Мое объяснение вызвало возражение Володи, быстро перешедшее в спор, прекращенный генералом и вовсе не в духе отеческого выговора.
Из этой первой встречи остро запомнился мне и другой эпизод, героями которого оказались уже все без исключения. Как тогда же выяснилось, генерал Канцеров успел уже ознакомиться и с хозяйственной частью полка, которой остался весьма недоволен. Начав с подполковника Борцова, он задал ему совершенно неожиданный вопрос: "Что должно находиться в передке походной кухни?". С 1914-го года бессменно находившийся в строю, множество раз раненый, храбрейший и талантливейший офицер нашего полка, Я.Д. Борцов давным-давно позабыл нормальную жизнь тыловой части, а посему ответил уклончиво, но правильно: "Прежде всего, надо иметь передок".
– А как же Вы возите кухню? – изумился Канцеров и получил исчерпывающий ответ: "В оглоблях!"
– Ну, а когда у Вас будет передок, то что должно в нем находиться? – не отставал Начдив. Этот каверзный вопрос, задававшийся всем по порядку, полного освещения не получил, хотя на двух вещах, все сошлись безусловно: неприкосновенный запас дров и полотенце. Что же касается всего остального, то тут мнения разделялись.
Разошлись мы тогда, пораженные знаниями Канцерова и нелепостью задаваемых им вопросов. Однако общее впечатление было в его пользу. Вскоре подоспели и свежие новости, окончательно убедившие нас в оригинальности нашего Начдива.
Пришли мы тогда в станицу Ольгинскую, ту самую Ольгинскую, где, два года тому назад, зародился 1-ый Офицерский полк. Я получил боевой участок на Северной окраине станицы, вправо от ведущей на Аксай дамбы и до конца линии нашей обороны. Влево от дамбы – боевой участок поручика Елина. Тотчас же по прибытии нам было приказано приступить к постройке снеговых окопов и расквартировать роты, с указанием на дверях числа людей занимающих ту или иную хату. Приказание исходило от генерала Канцерова, сообщавшего о своем намерении лично убедиться в исполнении отданного им приказания. В условиях гражданской войны, возведение окопов, да еще снеговых, являлось для нас новостью. Не менее удивительным были и надписи мелом на воротах, облегчавшие противнику, в случае нашей неустойки, точно определить состав полка.
Но, делать нечего! Канцеров явится проверять и приказание должно быть исполнено. Хорошо помню: стояла оттепель, и все кругом было покрыто мокрым тяжелым снегом. Скатывать из него шары не представляло из себя никакой трудности. Однако, прикаченные на место и взгроможденные друг на друга, они, тяжестью заключенной в них воды, давились и расползались чуть ли не в кашу, грозя обратить и без того мокрую почву в сплошное болото. Пришлось трамбовать и лепить руками уставной профиль. В моем воображении, мне уже представлялась моя завтрашняя встреча с Начдивом, когда на его вопрос: "А где же Ваши окопы?", мне придется указать на грандиозную лужу и скромно сказать: "А вот!".
Претвориться в жизнь этой, рожденной озлобленным воображением, сцене все же не удалось, так как оттепель прекратилась, и погода пошла на все более и более крепчавший мороз, вскоре обративший нашу постройку в монолитную ледяную массу, непроницаемую не только для пуль, но и для трехдюймовых гранат.
Справившись с этим первым заданием, я приказал унтер-офицеру Сантурину сделать, на дверях хат, занятых моей ротой, потребованные генералом Канцеровым надписи, но только с прибавкой ничтожной единицы впереди действительного числа квартирующих в них солдат. В первом походе, так приказывал генерал Марков. Эта "военная хитрость" сразу довела состав моей роты до внушительной цифры в 180 с лишним человек, то есть увеличила состав моей роты более чем на две трети ее действительного состава. "Разумейте языцы и покоряйтеся"!
За ночь мороз усилился, а к утру разразилась сильнейшая, снежная буря, нанесшая целые горы снега и все продолжавшая бушевать. По моим соображениям, обещанный Канцеровым визит ни в коем случае состояться не мог, но около 3-х часов пополудни, бесстрашный Начдив все же появился на моем участке и, прежде всего, отправился проверять мою полевую заставу. Пришлось и мне сопутствовать. Ежась от холодного ветра и от проникавшего за воротник шинели снега, проклиная любопытство начальства, плелся я за ним по открытой степи, мысленно моля Бога надоумить "товарищей" рассеять нашу многочисленную свиту несколькими разрывами шрапнели. Увы! Молитва моя не была услышана: красная артиллерия решительно отказывалась бомбардировать густую вуаль снежной бури. Триста шагов, отделявших нас от заставы, пришлось уныло следовать за генералом. Расположением заставы Канцеров остался доволен, а насыпанный высокий снежный вал, долженствовавший защищать людей от леденящего ветра, но принятый Начдивом за окоп, заслужил его одобрение.
Добросовестно промерзнув на заставе, вернулись мы на линию моих окопов, осмотр которых тянулся неимоверно долго и я уже начал жалеть и раскаиваться в их постройке. Но, наконец, и этот осмотр был закончен и, следовательно, должна была кончиться и пытка холодом. Не тут-то было! Канцеров отправился проверять надписи на дверях и воротах хат. Эту процедуру он закончил довольно быстро, видимо торопясь на соседний участок поручика Елина до наступления ночи. За все время проверки надписей, Начдив не обронил ни единого слова, но, проверив последнюю, вдруг обернулся ко мне и, ухватив меня за пуговицу шинели и весело подмигнув глазом, сказал: "Капитан Р., а ведь за Вами имеется должок!" – "То есть?", вытаращил я глаза. Слегка толкнув меня правой рукой, а левой продолжая держать меня за пуговицу, и сильно откинувшись назад, Канцеров продолжал: "Не далее чем два дня назад, Вы утверждали, что назначение двух солдат ослабит боеспособность Вашей роты. А что же я вижу?", еще более откинув голову, продолжал Канцеров, "да у Вас – самая большая рота; да и не только в полку, а во всей дивизии!" Мое объяснение о поразительной способности единицы восполнять недостающее число солдат в роте и, таким путем, устрашить могущего занять станицу противника, вызвало полное недоумение Канцерова:
– Станица, обороняемая офицерской дивизией, не может быть взята противником!
– Однако такие эпизоды уже случались, – опираясь на свой богатый опыт, возразил я.
– Таких эпизодов больше не будет!
Приказав стереть все единицы, Начдив отправился на левый боевой участок, сопровождаемый своей свитой.
Неистовый снежный буран продолжался, и тьма наступившего вечера окутала степь, когда генерал Канцеров появился в расположении 7-ой роты. Елин, хотя и предупрежденный заранее адъютантом, все же считал, что ввиду позднего часа и "сногсшибательной" погоды, Начдив отложит свой визит до завтра, а потому и не беспокоился. Серьезные основания для беспокойства, однако, имелись: к возведению окопов Елин не приступал, считая их абсолютно бесполезными. И вот, он оказался стоящим перед генералом Канцеровым и… перед дилеммой: как быть?
Казачья пословица говорит: "Нэ тыв казак, ще поборов, а тый ще выкрутывся!" Елин и решился стать настоящим казаком: на приказание Канцерова показать свои окопы, он, не выразив ни малейшего смущения, повел за собой генерала в открытую степь. Погода неистовствовала; снежный буран обратился в редкую по силе завируху. Казалось, что порывы ветра налетают со всех сторон, разбрасывая и крутя россыпи мелкого сухого снега. Ни зги не видно!
"Представь себе", рассказывал мне на следующий день Елин, "идут за мной Начдив, Дядя Ваня (командир полка И.П. Докукин), Костя (адъютант К. А. Рексин), еще кто-то. А куда их вести – мне безразлично: окопов у меня нигде нет. Водил я их, водил! Минут двадцать! Все никак к окопам дороги найти не могу. Думал: прозябнут и домой воротятся, ан, нет! Прилип ко мне Канцеров как банный лист – не отстает! Еще походили и опять ничего не нашли! Ваше Превосходительство, говорю, как же тут снеговые окопы найти, когда и собственной руки не видно? Остановился Канцеров, одной рукой за пуговицу шинели меня держит, а другую на плечо мне положил и говорит грустным, грустным голосом: "Припомнилась мне одна печальная история. Был у меня один знакомый молодой человек, хор-о-о-ший молодой человек и, представьте, вдруг застрелился! А Вы знаете почему? – Никак нет, отвечаю. – А потому что ему надоело каждый вечер снимать и каждое утро надевать штаны!"
Из дальнейших тирад выяснилось, что нежелание каждое утро надевать штаны равняется нежеланию строить окопы и что и то и другое неизбежно ведет к самоубийству.
Приказав генералу Докукину сместить поручика Елина с командованья ротой, Начдив вернулся к себе. Впоследствии, когда я напомнил "Дяде Ване" об этом происшествии, он, улыбаясь, ответил: "Да! Для этого надо было быть Елиным!"
Ночью кончился снежный буран. Наступившее ясное морозное утро началось с попытки "красных" атаковать ст. Ольгинскую от Аксая. После четырехчасового боя, понеся большие потери, атаковавшие части отхлынули обратно за Дон. Генерал Канцеров приехал на мой участок, осмотрел поле боя и поехал вперед, туда, где лежали, скошенные пулеметным огнем, цепи "товарищей".
Возвращаясь на линию моих окопов, Начдив встретил солдата, посланного мной с приказанием на передовую заставу. Солдат не обратил ни малейшего внимания на ехавшего верхом генерала, да вряд ли угадал в нем начальника, а потому спокойно продолжал свой путь и не отдал чести.
– Стой,- остановил его Канцеров. – Почему не становишься во фронт? Ты видишь кто я?
– Никак нет,- ответил растерянно солдат.
– Я – генерал Канцеров, начальник дивизии. Понял? Ну, становись во фронт!
Перепуганный солдат неуклюже вытянулся.
– Не так,- слезая с коня, сказал Канцеров. – Садись на коня, проезжай мимо меня и кричи: Здорово Канцеров!
Солдат замялся, но приказание исполнил. Раз десять, по желанию генерала, проезжал он мимо него с приветственным возгласом, на который, браво становясь во фронт, Канцеров громко отвечал: "Здравия желаю, Ваше-ство!"
– Ну, а теперь отдавай мне коня. Мой черед ехать, а твой – становиться во фронт!
Лихо ставший во фронт солдат, при первом же проезде мимо него генерала, заслужил его полное одобрение. Спустя некоторое время, на мой вопрос посыльному – что это за происшествие, наблюдавшееся мною издалека – солдат описал мне эту сцену и, улыбаясь, закончил: "Ох, и бедовый!"
16-е февраля – трагический для Марковской дивизии день – начался для меня тяжелым ранением в колено осколком бризантной гранаты, с раздроблением коленной чашечки. Боль была чудовищная! Но передать командование моим участком было некому. Поднятый и усаженный на патронную двуколку, я продолжал командовать за все продолжение фронтовой атаки "красных", после отбития которой был отвезен в лазарет, находившийся на южной окраине станицы. И тут пришлось мне увидеть собственными глазами всю безнадежность нашего положения, о котором до сих пор я не имел никакого представления.
Здесь, в последний раз видел я генерала Канцерова, отдававшего приказание командиру конной сотни, поручику Гетманскому, атаковать обходящую колонну "красной" кавалерии.
– Ваше-ство,- доложил обескураженный Гетманский – кони и люди вымотаны окончательно! Лошадей нельзя поднять даже на рысь!
Хорошо помню фигуру генерала Канцерова и принятую им позу. Выпятив свой, и без того толстый, живот, упершись обеими руками в бока, мелко семеня ногами и будто пританцовывая, он вдруг заговорил речитативом: "Кузькина мать собиралась помирать. Помереть – не померла, только время провела. Налево кру-гом! В атаку, марш!"
Конца этой сцены я уже не видел. Поняв, что в лазарете мне делать больше нечего, я приказал отвести себя к моей роте, надеясь, при удаче, вывести ее из западни и спасти хотя бы часть ее состава и пулеметы.
Что случилось в дальнейшем с генералом Канцеровым, я не знаю. Был ли он убит или смещен с командования? Во всяком случае, когда мне посчастливилось вывести из станицы жалкие остатки моей роты и кое-каких присоединившихся ко мне отдельных людей, на лежавшие в двух верстах холмы, то там я не видел Канцерова.
По рассказу полковника М.Г. Степашина, генерал Канцеров вышел на войну 1914-го года в должности командира Бородинского полка и прославился разгромом венгерской конной дивизии, за что получил орден Св. Георгия 3-ей степени в чине полковника.
Генерал П.Н. Краснов описал этот бой в своем романе "От двуглавого орла к красному знамени".
Насколько это верно – не знаю.
Алешка
Появление Алешки в "Роте Ставки Главнокомандующего" было абсолютно незаконно. Во-первых, эта рота была сформирована из участников "1-го Кубанского Похода", "Похода Дроздовского" и "Второпоходников", раненых не менее двух раз. Во-вторых, приобретенный на казенные деньги, без соизволения начальства, поручиком Бондарем, после многообильных возлияний в одном из "Кавказских погребков", Алешка был доставлен в роту в насильственном порядке и вовсе не интересовался своим "безпачпортным" положением, целиком предав себя в руки судьбы. Он и не пытался доказывать свое участие в одном из славных походов, что было бы явно невозможно ввиду его малолетства, и не оправдывался нетрезвым состоянием своего временного хозяина за свое появление в "Роте Ставки".
Однако эти неоспоримые факты не помешали зачислению его в роту, главным образом благодаря его располагающему виду и вызванной им всеобщей симпатии и готовности принять горячее участие в его судьбе. В конце концов, довольно понятно, что недельный медвежонок не принимал участия в походах и попал в роту не с целью словчиться и избежать отправки на фронт, а в силу сложившихся, помимо его желания, обстоятельств. Одним словом, ни с чьей стороны возражения, по поводу его пребывания в роте, не встретилось.
Командиром роты был, в то время, дружно ненавидимый всеми – уж не помню почему – капитан Жлоба. С этой стороны ожидались всевозможные препятствия, но одним своим видом Алешка победил черствое сердце командира. На очередь стал вопрос о "неправедно" израсходованных казенных суммах. К общему удовлетворению и он разрешился сам собой, путем доброхотных пожертвований. Итак, Алешка получил законную легализацию.
Каждый писатель, приступая к описанию своего героя, прежде всего, обращает внимание на его внешность. Что же касается меня, то, хотя и желая идти общепринятым путем, я все ж принужден отказаться от этого метода, по причине весьма уважительной: отсутствию всякой внешности! Как дать представление о большом буром клубке, из которого высовывались по временам лапы, а иногда прирастал клубочек поменьше, увенчанный черным носом и, горящими в глубокой шерсти, черными глазами, дававшими некоторое основание подозревать в нем голову! Несколько дней пребывал Алешка в этом неописуемом состоянии, а затем начал принимать более отчетливую форму. Теперь он уже пытался ходить по полу, иногда валясь на бок, не будучи в силах снести тяжесть задней части своего тела. С каждым днем его движения становились увереннее, а голова пряталась между лап только по настойчивому требованию Морфея.
Его быстрое развитие находилось в прямой пропорции к проявляемому им аппетиту, что, в свою очередь, вызывало и другую, крайне важную необходимость, которой наши ротные "остроумцы" воспользовались для выражения своей симпатии к ротному командиру. Узрев тревожную сосредоточенность в лице Алешки, они немедленно вели его в комнату ротного – обычно находившегося в канцелярии – водружали на постель и подвергали усиленному массажу живота, до тех пор, пока медвежонок не удовлетворял и собственное желание, и общее стремление массажистов. После двух-трех показов предписанного ему поведения, сметливый Алешка уже не нарушал положенного этикета. Возмущенный командир начал запирать свою комнату на ключ. Обескураженный Алешка, за невозможностью проникнуть за запертую дверь, располагался перед нею, оставлением своих "визитных карточек" доказывая добросовестность выполнения взятых им на себя обязанностей. Первоначальная неосторожная симпатия к Алешке навеки покинула сердце командира. Из "какая прелесть!", Алешка стал "эта гадость!". Впрочем, потеря симпатии со стороны начальства с лихвой компенсировалась бурными одобрениями чинов роты, отдавшей Алешке свою благодарную любовь.
По утру, после поверки, целая компания футболистов высыпала на соборную площадь. Алешка, будучи прирожденным футболистом, неизменно сопутствовал им. Однако он решительно отказывался подчиняться правилам игры и, как только овладевал мячом, бросался на него животом сверху, после чего между ними начиналась борьба "с переменным счастьем": то мяч под ним, то Алешка на нем! Надавленный тяжестью Алешкиного тела, мяч прыгал в сторону, преследуемый по пятам Алешкой. Настигнутый им, он снова выскакивал из-под обрушившегося на него медвежонка; а тот неукоснительно продолжал свое преследование, не изменяя приема единоборства.
Так они и катались по площади, к великому негодованию футболистов, вынужденных, за потеряй мяча, временно прекратить свое состязание. Всякий раз как мяч покидал границы своего поля, он неизменно оказывался под мягким Алешкиным животом, пока, не вырвавшись, снова появлялся на поле с самой неожиданной стороны, в сопровождении своего мохнатого приятеля. Мяч немедленно отбирался, а, снабженный "подтатырой" Алешка поспешно скрывался за забор из человеческих ног, где и выжидал новый удобный случай.
Одним из самых заядлых футболистов был тогда поручик Дроздовского полка, Михаил Гусиков, которого всякий перерыв в игре приводил в бешенство. Однажды, вскормив в своей груди змею мщения, он с силой направил мяч на не подозревавшего злого умысла Алешку, бросившегося ему навстречу. В результате произошедшего столкновения, перевернувшись раза три через самого себя, Алешка покатился к ближайшему дереву, на которое и вскарабкался в рекордное, в смысле скорости, время. С этого дня, это дерево стало его любимым наблюдательным пунктом, а желание принять активное участие в игре – испарилось.
Как-то раз, не помню уже кто из офицеров подкинул мяч на высоту сука увенчанного Алешкиной особой. Пришедший в ужас медвежонок отшатнулся и, потеряв равновесие, свалился на голову поручику Корниловского полка, Пашкевичу, по прозвищу "Чинизелли". Много тогда пришлось употребить труда, что бы доказать Пашкевичу, что падение ему на голову Алешки нельзя рассматривать как покушение на жизнь славного соратника генерала Корнилова, а относиться к этому делу проще. Вынужденный согласиться с приводимыми доводами, "Чинизелли" все же еще долго ругался.
Кроме Алешки, в "Особой Роте" состоял на довольствии огромный ирландский дог. Этот молос проводил свободное от еды время в состоянии чего-то похожего на летаргический сон. Лежал он обыкновенно в конце коридора, дожидаясь сигнала на обед. Выслушавши его, дог не торопясь, начинал обходить по порядку всю роту, собирая посильную мзду буквально со всех, после чего отправлялся к своей миске, съедал все ее содержимое и снова укладывался в коридоре, с полным сознанием исполненного долга и с очевидным и твердым намерением дожидаться ужина. Мне всегда казалось, что ничто не в силах вывести его из оцепенения, или вызвать в нем хоть какое-то желание, кроме как покушать. Доброты и благодушия он был непомерных.
Появление в роте Алешки все же вызвало некоторое беспокойство относительно их будущих взаимоотношений. Первая встреча их состоялась в коридоре, в обстановке заранее принятых предупредительных мер. Изумлению дога не было границ. Обнюхав со всех сторон Алешку, попробовав его лапой и облизав ему живот, дог остался доволен своим новым знакомым. Что же касается Алешки, то больше всего его привлек длинный хвост дога, которым он и занялся. Через минуту всякие опасения рассеялись, так как их взаимная симпатия бросалась в глаза.
Вскоре влияние Алешки на дога сказалось со всей силой: на второй же день их знакомства, характер пса изменился коренным образом. С раннего утра, дог отправлялся на розыски своего приятеля и, обнаружив его присутствие у кого-нибудь на кровати, сковыривал его на пол своей мощной лапой, после чего между ними начиналась неравная борьба, в которой дог придерживался оборонительной тактики, а Алешка атаковал с невиданным азартом, наскакивая на дога со всех сторон. Результат бывал неизменным: дог поднимал лапу и валил Алешку на пол, перекатывая его несколько раз подряд и помогая своей лапе носом. Освободившись – не без согласия дога – Алешка снова атаковал и снова падал жертвой могущественного пса. Эта игра не надоедала ни одному, ни другому и продолжалась вплоть до прогулки на соборной площади, а, по возвращению с нее, возобновлялась. Когда же, искатавший собою весь пол, медвежонок начинал чувствовать полное истощение сил, то спасался на чью-нибудь кровать, где и засыпал мгновенно.
Однако, отдых его никогда не бывал продолжителен. Через полчаса, ярое желание победы снова овладевало им, и тогда он вскачь направлялся в становище дога, на которого и бросался со всего разбега. Полусонное состояние пса не мешало ему снова одерживать победу и катать Алешку по полу сколько вздумается. Иногда игра разнообразилась, принимая характер встречного боя. Это случалось обыкновенно утром, когда дог, направляясь на розыски Алешки, неожиданно встречал его в коридоре. Тогда они мчались навстречу друг другу и, в момент неизбежного столкновения, дог перепрыгивал через медвежонка, а тот, не будучи в состоянии "затормозить", продолжал нестись вперед пока не останавливался, поворачивался и, с новой энергией, устремлялся на повторявшего свой каверзный прием дога. После этих первых перипетий встречного боя, сражение принимало обычный характер, с обычным для Алешки результатом, что впрочем нисколько не огорчало покладистого медвежонка и, по-моему, даже ему нравилось.
Уже самый состав роты указывал на присутствие в ее рядах чрезвычайно предприимчивых личностей, исхитрявшихся извлечь добавочное удовольствие из единоборства дога и Алешки. Обладая 20-ти/23-хлетним возрастом и свойственной этому возрасту изобретательностью, эти личности вполне оправдали возлагавшиеся на них надежды.
Утром и вечером, рота выстраивалась на поверку в длинном, плохо освещенном коридоре, в глубине которого держал свою штаб-квартиру дог. Алешка припрятывался за правым флангом и, к моменту выхода командира роты и подаче команды "Смирно!", незаметно впускался между первой и второй шеренгой. Никакого шевеления в строю не могло быть замечено, так как стоявший во второй шеренге третьим или четвертым поднимал согнутую в колене ногу, а его левый сосед – правую. В образовавшуюся "калитку" в двойном заборе из человеческих ног проникал Алешка и тотчас же устремлялся в направлении левого фланга, где, по его сведениям, должен был находиться дог. В свою очередь, пес впускался с левого фланга и, заметив Алешку, мчался ему навстречу, неизбежно сталкиваясь с ним где-то по середине стоящей "смирно" роты. В результате их бурной встречи, пять-шесть человек вываливалось вперед, нарушая воинский устав, а в образовавшуюся брешь, подгоняемый лапой и носом дога, торжественно вкатывался Алешка, не желавший принимать во внимание окончательную порчу своих отношений с ротным командиром и глубоко уверенный в том, что поставленный ребром вопрос: "он или ротный?" будет разрешен в его пользу. Кстати, вопрос этот не стал на очередь только потому, что вскоре капитан Жлоба был сменен и в командованье ротой вступил капитан Савельев, будущий командир 3-го Марковского полка.
Однажды, вернувшись из города, я принес для Алешки баночку меда. Алешка сразу угадал ее содержимое, но встретил неодолимое препятствие ввиду ширины своих лап, мешавших ему проникнуть во внутренность банки. Его попытка перевернуть банку над головой, в ожидании самотека меда ему в рот, успехом не увенчалась. Потерявший терпение Алешка начал катать ее по полу, но твердый мед не желал вытекать. Желая помочь ему, я хотел было взять банку, но медвежонок пришел в такую ярость, что я предпочел предоставить его собственным силам.
После множества бесплодных попыток, Алешка все же нашел возможность вступить в обладание содержимым банки. Для этого ему пришлось сесть на пол, прислонившись спиной к стене и, подняв лапами непрактичную посуду и запрокинув голову, вылизывать сладкий мед. За этим занятием он провел бесконечно много времени. Когда я поднял, наконец, оставленную им банку, то в ней не оставалось и признака меда. Она была чиста как Алешкина душа.
Приобретя уже известный опыт, через несколько дней он справился со второй банкой гораздо скорее. Однако, самым неожиданным последствием вылизанной им третьей банки явилась ежедневная утренняя ревизия моей кровати, где Алешка устраивал настоящий обыск, о чем свидетельствовали скинутые на пол матрас, одеяло и простыни, а исчезнувшая подушка находилась в самых неожиданных местах: так, например, Алешка дважды приволакивал ее в подарок догу. Беззастенчивость медвежонка прогрессировала с каждым днем и требовала принятия решительных и действенных мер. Банка меда оказалась вписанной в ежедневный рацион Алешки и тяжело легла на мой, более чем скромный, бюджет. Иного выхода не было. Приобретенная с вечера банка ставилась в угол комнаты, отведенной десяти человекам. Восставши от сна, Алешка немедленно отправлялся туда и принимался за свой утренний завтрак, до окончания которого никакие попытки дога вызвать его на единоборство успехом не увенчивались.
В один прекрасный вечер, поручик Бондарь вернулся из города с полным удовлетворением от проведенного отпуска и с бутылкой ликера в кармане. Решивши продолжить свое "благостное состояние", он также предложил Алешке разделить компанию. Никогда не пробовавший ликера, Алешка пришел в восторг от этого божественного нектара и не только не вернул предложенную ему бутылку, но и окрысился на требовавшего возвращения своего имущества, поручика Бондаря. Никакие уговоры не помогли и когда, наконец, бутылка перешла к своему законному владельцу, то оказалась пуста как барабан, а Алешка, спев несколько никому неведомых песен, растянулся на полу и заснул как убитый.
Терзавший его на следующий день "кацен-ямер" был настолько мучителен, что людские сердца не выдержали и дали ему опохмелиться. Действительно, зрелище было потрясающее: Алешка ходил, держа себя лапами за голову, жалобно и не переставая стонал, или валился головой вниз и терся ею об пол. Виновник Алешкиного состояния чувствовал себя не лучше, приняв на свою голову, кроме заслуженных невыносимых мучений, град сыпавшихся на него упреков.
Мое пребывание в Роте Ставки было весьма краткосрочно, так как вскоре я получил письмо от командира полка, вызывавшего меня для принятия командной должности, и вернулся в мой родной полк. Через месяц, тяжело раненый, я очутился в тылу, в Таганроге, куда к этому времени перебрался и штаб генерала Деникина. Как только я получил возможность двигаться, то первым делом отправился навестить Роту Ставки и моего любимца Алешку. Алешки уже не было в роте: его отдали на какой-то бронепоезд. Мне сообщили, что медведь окончательно спился, и продолжать держать его в роте стало невозможно. Кое-как подлечившись, я опять уехал в полк и забыл и думать об Алешке.
Но нам суждено было еще раз встретиться. Мы были уже в Крыму. Узнав, что мой отец живет в селе Покровском – между Феодосией и Керчью – и воспользовавшись новым очередным ранением, я отправился навестить его. На станции "Семь колодезей" где я покинул вагон, стоял наш бронепоезд. На площадке одного из его вагонов стоял, одетый в широкую меховую шубу, человек высокого роста и плотного телосложения, с остервенением крутивший тормозное колесо. Его одеяние явно не соответствовало жаркому майскому дню и невольно привлекло мое внимание. К моему великому удивлению я разглядел, что это был большой бурый медведь.
– Алешка! вырвалось у меня невольно.
Алешка бросил крутить свое колесо, вывалился на насыпь и бросился ко мне со всех четырех ног. При виде скачущего на меня медведя, я до того растерялся, что не сделал ни малейшей попытки спастись хотя бы бегством.
Алешка узнал меня и выразил свой восторг тем, что начал обращаться со мною так, как некогда обращался с ним дог и если бы не прибежавшие с бронепоезда люди, то мне пришлось бы, вопреки собственному желанию, искатать все поле, будучи принуждаем к этому времяпрепровождению неумеренным энтузиазмом Алешки!
Меврский оазис
Дорогие соратники! Разрешите мне быть очень гордым, тем более что гордость моя покоится на прочном фундаменте "Очерков Русской Смуты" генерала Деникина. Из чувства справедливости, я уступаю половину моей гордости подполковнику Г.Н. Залеткину – в те поры поручику – ибо, без его участия, история эта никогда бы не вышла из казачьей хаты станицы Ольгинской, где, 12-го февраля 1918-го года, располагалось 1-ое отделение 3-го взвода 1-ой Офицерской роты.
Говоря о нелепых слухах о предполагавшемся движении Армии, генерал Деникин пишет: "Говорили даже, что мы идем в Меврский оазис!" Скромный автор этих строк является одновременно и автором этого слуха.
В этот день, отделение моего взвода, собранное в одну хату, изнывало от безделья. Наш взводный командир, капитан Згривец, помещался с нами, и на него-то и обратилось мое опасное внимание, в поисках каких бы то ни было развлечений.*
Поручики Успенский, Паль, Недошивин, доброволец Платов и другие, сидя на скамьях вокруг стола, спорили о направлении движения Армии. Я же был занят изысканием такого места, которое возбудило бы внимание и любопытство капитана Згривца. Эврика! Меврский оазис!
Подготовка к выполнению задуманного плана была проведена с молниеносной быстротой: беглый взгляд в сторону поручика Успенского, легкое прикосновение к сапогу поручика Паль, скошенные глаза по правилу "в угол – на нос – на предмет" для Недошивина и хлопанье среднего и указательного пальцев по большому для остальных – объяснили каждому задачу.
– Да что там спорить, – небрежно произнес поручик Успенский, – идем за Синей Птицей, как сказал генерал Марков.
– Да, но нет ли тут намека, – бросился я прямо к цели, – синие птицы водятся только в Меврском оазисе! Я уже слышал, что мы идем туда!
– Верно! – вскрикнул Недошивин – так вот что это значит!
Згривец насторожился.
– Кажется что так, да только воды там нет!,- возразил кто-то.
– Как воды нет? А секретные водоемы, которые еще Чингиз-хан понастроил на сотни тысяч коней и людей!
– Верно! Значит, идем в Меврский оазис!
– В Меврский оазис! – подтвердили все хором, – в Меврский оазис!
Згривец весь обратился в напряженное внимание, но не вмешивался, а только прислушивался, может быть, боясь попасться на удочку. Все предприятие грозило провалиться.
В этот момент в хату вошел поручик Залеткин, бывший в связи в штабе полка и теперь сменившийся.
– Жора, правда ли что мы идем в Меврский оазис? Ты ничего не слыхал?
Быстро охватив обстановку, Залеткин подтвердил:
– Завтра выступаем в Меврский оазис!
Появление Залеткина прямо из штаба полка придало необыкновенный вес его словам и Згривец не выдержал:
– А где же этот самый Мерзкий Оазис?
– В Туркестане!
Нижняя губа капитана Згривца сама собой вытягивается в дудочку, рот раскрывается, и глаза округляются. Единственная фраза, произнесенная им, состоит из одного слова, выражающего всю бурю чувств и переживаний, овладевшими им при столь потрясающем известии: "Во-о-о-т!"
Дикий, неудержимый смех охватывает нас всех. Стонет, ухватившись за живот, поручик Недошивин. Катается по постели, в судорогах, поручик Успенский. Поручик Паль, сидевший на лавке, прислонился спиной к стене и, задрав кверху ноги, заливается истерическим хохотом. Присев на корточки, и держась руками за пол, издает какие-то нечленораздельные, похожие на икание звуки доброволец Платов.
Згривец выпрямляется:
– Ну, сейчас что б чистить винтовки! Что б вас далеко не носило!
Надел шинель, взял фуражку и вышел из хаты. Вернувшись через час с каким-то надменно-торжествующим видом, проверил винтовки и сообщил, что отделение назначено на ночь в полевую заставу.
Холодно ночью полуодетым людям в открытой, занесенной снегом степи. Вот те и Меврский оазис!
Вдруг к заставе подъезжают трое всадников. Узнаем генерала Маркова, доктора Родичева и капитана Образцова. Узнав, что это отделение 3-го взвода, генерал Марков весело справляется:
– А, это, стало быть, вы! Ну, что вы там начудили?
Рассказываем историю Меврского оазиса. Генерал Марков хохочет. Хохочем и мы. Неожиданно на заставу приходит капитан Згривец, слышит смех, узнает генерала Маркова. Марков видит Згривца:
– Веселые у вас люди, капитан.
– А чего им, Ваше – ство, только и делают что ржут. Вот теперь пусть померзнут, что бы их в Туркештане не попалило!
Теперь смеются и генерал Марков, и доктор Родичев, и Митя Образцов. А мы – мы ржем. Згривец насупился. Желая поддержать и утешить его, генерал Марков, указывая на кисть его раненой руки, спрашивает:
– Ну как, капитан, работает?
– Работает, Ваше-ство, – оживляется Згривец.
Но он врет. Кисть его руки остается неподвижной и, три месяца спустя, будет лежать она, такая же неподвижная, на его тоже уже неподвижной груди, закрывая собой маленькое отверстие от пули, пронизавшей его сердце.
Вот и вся история Меврского оазиса. Все остальное есть только мое предположение о путях, по которым она дошла до штаба Армии и попала в "Очерки Русской Смуты". Вероятно, генерал Марков рассказал ее в штабе, а генерал Деникин сохранил в памяти как самый нелепый курьез, слышанный им в его жизни.
Верблюд
Мое первое знакомство с верблюдом относится к неприятнейшим воспоминаниям моего детства, когда наша встреча закончилась глубокой взаимной антипатией. Эта, изуродованная со дня своего рождения скотина оплевала меня с высоты своего могучего роста, с поразительной меткостью, вероятно мстя за какие то мои агрессивные действия, нанесшие ущерб её верблюжьему достоинству. Расстались мы тогда с твердым намерением никогда больше не встречаться, я – уводимый за руку отцом и получив предварительно подзатыльник, а он – отогнанный сторожем в глубину клетки.
Но, "прошли года, мы вновь сошлись с тобою!"
Эта вторая встреча состоялась в селе Лежанки, Ставропольской губернии, где, вынужденный сложившимися обстоятельствами, я оказался в необходимости восстановить наше знакомство. А если уж быть совершенно откровенным, то обстоятельства вовсе не сложились, а были заботливо сложены моим феноменальным легкомыслием.
Ночь, накануне выступления, я провел в карауле и возвратился во взвод с законным желанием хорошенько выспаться. Однако, забитая людьми хата плохо соответствовала моему намерению. А потому, я отправился во двор, где и расположился в каком-то сарайчике, в полном покое и одиночестве, утаив от всех мое местопребывание. Не помню, видел ли я во сне "ласки весны", или ничего не видел, но пробуждение свое запомнил!
Тишина. Зловещая тишина! Вхожу в хату – никого! За столом сидят две фигуры, и тоже зловещие.
– Где наши?
Ответ на мой вопрос мне кажется и вовсе зловещим:
– А ты что, отстал?
Их молниеносно брошенный друг на друга взгляд не предвещает ничего доброго. Чувствую, что кто-то очень большой и с очень холодными руками, взял в них мое сердце и начинает его тихонько сжимать, а по спине взбираются мурашки.
Не знаю, насколько выражение равнодушия, приданное мною моему лицу, было естественным, но интонация голоса не изменила:
– Нет, не отстал, а я тут маяком. Сейчас пойдет наша кавалерия, так дорогу ей показать. А наши то давно ушли?
Мой ответ, видимо, произвел на них известное впечатление, так как оба мужика потупили головы, снова переглянулись и не замедлили ответом: "Да должно часа три-четыре".
Ободренный первым успехом и желая придать ему еще больше веса, я произвел новую вылазку:
– Вот что: коли зайдет полковник, так скажите ему, что я у церкви, на горе, дожидаться буду, а то как бы казаков не пропустить, они, небось, уже там! – И с этими словами я вышел из хаты.
Передо мной – пустая улица. Ни души! Удары сердца отдаются в висках и мешают дыханию. Дабы не возбуждать подозрений, иду медленно, крепко охватив шейку винтовки и мысленно считая количество имеющихся у меня патронов. В этой тяжелой борьбе головы с ногами, в которой ноги имеют тенденцию перейти вскачь, но где победа остается всё-таки за головой, я достигаю, наконец, соборной горы. Впереди, ещё шагов на 500, продолжается улица, а дальше – пустая степь, насколько глаз видит. Следы недавно прошедшей, крупной колонны войск не оставляют сомнения в направлении движения Армии.
Передо мной встают три вопроса, терзающие мою душу.
Как пройти остающиеся до околицы 500 шагов и не подвергнуться нападению из домов? Как не попасть в руки могущим появиться с минуты на минуту "Красным"? Как догнать ушедшую Армию? В патронташе имеется 60 патронов, достаточных что бы выдержать хороший бой, но нет последней, верной гарантии – револьвера!
Вообще, будущность рисовалась мне в исключительно черных красках, а воображение, в ярких тонах, заставляло подозревать существующие в действительности, или предполагаемые опасности. Так, например, появление из-за плетня какой-то бабы, самого мирного вида, привело меня в состояние полной боевой готовности. Несмотря на то, что я ясно видел одну только бабу, я был убежден, что эта-та баба и есть олицетворение военной хитрости и вышла из хаты с единственной целью определения моей позиции. Впрочем, баба скоро исчезла и никаких последствий её появления не оказалось. Может быть, и выходила то она только "до ветру".
С четверть часа простоял я возле церкви, в полной нерешительности, в то же время прекрасно понимая, что каждая потерянная мною минута ухудшает мое, и без того скверное, положение. Из этого состояния нерешительности я был внезапно выведен появлением небольшой группы людей, хотя и бывших сравнительно далеко от меня, но, как мне казалось, имевших на мой счет явно враждебные намерения, что и заставило меня произвести новую диверсию. Взобравшись на выбеленную кирпичную стену, окружавшую церковь и служившую цоколем для вделанной в нее решетки, я стал, широкими взмахами рук, подавать сигналы несуществующим войскам. Для постороннего наблюдателя, как мне казалось, эти сигналы не оставляли сомнения в моей полной связи с подходящими и уже недалекими частями.
Не могу сказать, произвела ли моя демонстративная жестикуляция впечатление на устрашаемых мною врагов, – если таковые имелись в действительности, в чем я не уверен и по сей день – но Фортуну, если и не заинтересовала, то привела, во всяком случае, в недоумение и заставила её повернуться ко мне своим лучезарным ликом, вместо предоставленного мне до сих пор права любоваться её тыловой частью.
Лучезарным ликом Фортуны я называю отвратительную морду огромного рыжего верблюда, стоявшего привязанным к решетке церковной ограды, как раз за углом. Утопающий хватается за соломинку! Что же касается этой "соломинки", то, по-моему, она могла бы вытащить пятьдесят утопающих! Сделав её центром моих вожделений, я соскочил со стены и, уже не теряя ни минуты, бросился к ней.
Привязанный за шею веревкой, верблюд отнесся к моему появлению с полным равнодушием, разве только махнул сзади обрывком какого-то растрепанного шнура, долженствовавшего, по всей вероятности, изображать хвост.
Однако, все мои попытки погрузиться на "корабль пустыни" успехом не увенчались, за его полным неумением "пришвартоваться": стоило мне влезть на стену и постараться подтянуть его себе, как он подходил и становился ко мне мордой, создавая ею непреодолимое препятствие для его оседлания. Соскочив на землю, я мог добиться от него стояния боком у стены, но, как только я снова взбирался на стену, то опять оказывался перед его мордой, в недоступной дали от его спины.
Когда, в полном отчаянии, истощив все свои силы и не добившись успеха, я уже решил плюнуть на него и идти пешком – и будь что будет! – тут-то я и оказался на нем безо всякого труда. В последний раз соскочив со стены и имея в руках винтовочный шомпол, до сих пор служивший мне палкой для приведения верблюда в необходимое положение, я случайно ударил им по какой-то части его несуразного тела. Верблюд тотчас же лег. Теперь, оказавшись на нем, я приложил все усилия, что бы поднять его и заставить идти, тыча шомполом куда ни попало. Действительно, истыканный верблюд встал и, не торопясь, двинулся вниз по улице, в нужном мне направлении.
К сожалению, мое естественное желание ускорить его аллюр оставалось чисто платоническим по трем неустранимым причинам. Во-первых, управление верблюдом состояло всего из одной веревки, охватывавшей петлею его шею; чрезвычайно короткий конец её я мог держать только в сильно вытянутой левой руке, не имея возможности продвинуться, вперед из за высокого горба, украшенного пучком рыжей мочалки. Во-вторых, моя правая рука была занята держанием винтовки, в целях обороны на случай возможного нападения. И, в-третьих, сама моя неустойчивая посадка возбуждала во мне сомнение в моей способности усидеть, в случае перехода на рысь. А кроме всего прочего, у меня не было полной уверенности в том, что верблюды вообще умеют бегать.
Так, медленно и с видом полного спокойствия, никем не тревожимые, покинули мы Лежанку, выехали в открытую степь и продолжали нашу неторопливую прогулку до тех пор, пока не скрылись из глаз очертания высокой церковной колокольни. С первым, с момента моего пробуждения в Лежанке, вырвавшимся из груди свободным вздохом, просветлели одновременно и мои мозги, тотчас указавшие мне на всю нелепость держания одной рукой веревки. Мой, ставший мне симпатичным верблюд шел, не требуя ни управления, ни принуждения, очевидно считая своей обязанностью шагать, а моей – спокойно сидеть на нем и не вмешиваться в его дела. Дислокация моего тела – если можно так выразиться – после освобождения левой руки, значительно улучшилась, а отпущенная мною веревка болталась под шеей верблюда, не достигая земли. Кроме того, перекинутая теперь за спину винтовка настолько укрепила мою посадку, что я уже был склонен считать себя прирожденным кавалеристом, если не на коне, то, во всяком случае, на верблюде.
Однако, неторопливая походка моего верблюда, мало того, что нагоняла сон, но, мало помалу, возвращала ушедшее было беспокойство, так как оставалась опасность преследования, в случае если "товарищи", конечно, уже предупрежденные местными жителями о нашем уходе, вошли в Лежанку. Правда и то, что я отъехал довольно далеко, определяя расстояние по, уже дважды замеченным мною, местам малых привалов, легко определяемых каждым пехотинцем, но неописуемых.
Впереди только степь, ровная и безлюдная степь и никакой, хотя бы отдаленной, видимости Армии.
Случайно обернувшись, увидел я, что очень далеко позади, маячили маленькие фигурки нескольких всадников. "Красные!". С этого момента я уже не смотрел вперед, а, повернувшись насколько это было возможно, старался определить: скачут ли они ко мне, или стоят на месте? Увы, уже через несколько минут не оставалось сомнения в том, что они приближаются! Их было всего трое и они шли за мной широкой рысью, всё сокращая и сокращая разделяющую нас дистанцию. Уйти от них уже не было никакой возможности. А моя проклятая рыжая скотина равнодушно шла вперед и, несмотря на все мои ухищрения, уговоры и просьбы, не желала повернуться лицом к противнику, предоставляя мне принять бой в положении полуоборота.
Единственная возможность успешности обороны сводилась для меня к необходимости, с первого же выстрела, убить или ранить одного из нападающих, чему в сильной степени мешала моя неудобная позиция, настойчиво требовавшая от меня подпустить их как можно ближе. Они находились от меня шагах в шестистах и, не уменьшая рыси, шли на сближение, как будто не обращая на меня внимания. Моя винтовка, лежащая поперек верблюжьей спины, еще не была поднята к плечу. Когда расстояние между нами дошло до сотни шагов и я уже приготовился схватить её и выстрелить в одного из ехавших рядом всадников, как вдруг рассмотрел украшавшие их шинели погоны. Свои!
Да, это были трое казаков, оставленных в Лежанке следить за занятием её "товарищами". От них я узнал, что "красный" разъезд уже вошел в село. На мой вопрос: "сколько их?", мне ответили: "коней двадцать".
– Да не коней, а "товарищей"?
– На кажном по одном! – и с хохотом они зарысили дальше.
Получив эти малоутешительные сведения, и не имея ни малейшего представления, как далеко ушла Армия, я тотчас же приступил к изучению управления верблюдом. Я мучительно соображал: даны ли ему ноги только для того, что бы ходить, или они могут и бегать? Оплевавший меня в детстве верблюд ходил по своей клетке, а те, что я видел на пакетах с чаем Высоцкого, тоже как будто шли, а не бежали. Свои, тяжелые на этот счет, сомнения я постарался разрешить при помощи моего шомпола. Вспомнив, что слон управляется постукиваньем молотка по голове, я постучал шомполом по верблюжьему черепу – никакого результата! Прибег я также к практикующемуся на Украине приёму для придания живости волам, и тоже не добился успеха.
Исследуя постепенно все части верблюжьего естества, я уколол его шомполом под правую ногу и, в ту же минуту, неожиданно открыл две, скрываемая им до сих пор, недюжинные верблюжьи способности: во-первых выяснилось, что верблюды умеют прекрасно бегать, а, во-вторых, являются обладателями очень сильного и очень неприятного голоса, могущего быть вызванным в любую минуту по желанию кондуктора. Когда, получив укол, верблюд неожиданно прыгнул вперед и перешел в размашистую рысь, то я, не подготовленный к проявлению им такой прыти, чуть-чуть не оказался на земле и невольно вцепился в клок рыжей мочалки на его горбе. И. тотчас же, не то рёв, не то трубный глас огласил степные пространства. Нечто похожее я слышал в моем, обильным воспоминаниями детстве, когда я влил стакан воды в раструб духового инструмента, в то время как на нем упражнялся мой сводный брат.
Мой верблюд бежал теперь очень быстро, а дернутый за мочалку – ревел. Удовлетворенный, я не предъявлял к нему больших требований, опасаясь открыть в нем, сверх обнаруженных талантов, способность обозлиться. Около трех верст проехали мы рысью, после чего верблюд снова перешел на шаг, но немного спустя, по первому моему требованию, опять побежал. Сигнальная мочалка тоже действовала без отказа.
Вскоре я догнал Армию и, обгоняя тянувшуюся по дороге колонну, подал сигнал о своем прибытии.
"Но здесь моя бессильна лира, Здесь Муза требует Шекспира!"
Своим слабым, для данного случая, пером, я не берусь описать весь эффект произведенный трубным гласом моего верблюда и скромно ограничусь лишь главнейшими деталями: лошади бросились по сторонам, а находившиеся в колонне люди, точно сговорившись, обратили на меня свое пристальное и угрожающее внимание: каждый имел что сказать и каждый – что-нибудь неприятное!
Быстро переключив верблюда на рысь, и не имея желания оборачиваться на долго ещё продолжавшиеся крики негодования, в которых не были оставлены в покое мои родители и все предки до седьмого колена, я поскакал в голову колонны, где должна была находиться моя рота.
Мое триумфальное появление на верблюде не вызвало восторга, ни со стороны полковника Плохинского, ни со стороны капитана Згривца, обрушившегося на меня со всей силой своего вспыльчивого характера и приказавшего передать верблюда в артиллерию, куда я и отвел его на, продолжавшей болтаться на его шее, веревке. Целоваться на прощанье с ним я не рискнул: черт его знает, что у него на уме!
Для верблюда эта история кончилась назначением в артиллерию, а для меня – новым, внеочередным караулом, с объяснением причины наказания: "штоб не верблюжал!"
По возвращении из караула, я уже спать не ложился!
Переход
…идут себе веселые
в святой своей тоске.
Наступающее сырое и хмурое утро наложило свою тяжелую и неприветливую печать на, мерно шагающего перед строем взвода, полковника Плохинского и оба не считают нужным скрывать свое отвратительное настроение. У обоих имеются на то серьезные основания.
Скопление над головой, хотя и не видимых за темнотой, но угадываемых, низко ползущих туч, грозит окончательно испортить настроение утра и побудить его излить на голову ни в чем неповинного взвода все свое неудовольствие, в виде мелкого и холодного дождя, по хорошо известному правилу: кому-кому, а куцему попадет! Имеются свои основания и у полковника Плохинского: вот уж с десяток минут ждет он, на сборном пункте, опоздавшие туда 1-ый и 2-ой взводы и, постепенно накаляясь, грозит обрушиться на голову все того же несчастного "куцего".
Это напряженное состояние так и кончается, как было предвидено. Первым не выдерживает утро: с неба начинают падать, все учащаясь и учащаясь, капли холодного мелкого дождя, вполне достаточного, что бы переполнить чашу терпения полковника Плохинского. Теперь наступает очередь "куцего", в образе прапорщика Кедрина, который покорно принимает удары судьбы.
– Прапорщик Кедрин! Вы сказали: приказание исполнено. Где же оно (следует скоромное слово) исполнено? Что ж ни один… (следует скоромное слово) не собирается?
Здесь следует заметить, что употребление скоромных слов со стороны Плохинского, указывает на степень его раздражения, а также и на то, что в этой безграничной области, он обладает большими и ценными знаниями.
Бедный Хромышкин (прозвище прапорщика Кедрина, конного ординарца и тяжелого инвалида) суетливо поворачивает своего Росинанта и исчезает в серой вуали идущего дождя, откуда в скорости появляется снова, с тревогой в сердце и с неизменной фразой: "Господин полковник, приказание исполнено!"
Проходит новый десяток бесконечно долгих минут, а возвещенное Кедриным событие все еще не состоялось. Слово в слово повторяется монолог Плохинского и, жест в жест, торопливый отъезд Хромышкина. Однако на этот раз он появляется в сопровождении двух опоздавших взводов.
Могуч и богат русский язык, но тот, кто не слышал в это утро выявленных полковником Плохинским необъятных знаний, в одной только его нелитературной части, не может иметь о нем ни малейшего представления. Я до сих пор удивляюсь мужеству и стойкости капитанов Некрашевича и Полякова, и объясняю это только тем, что…
были люди в наше время,
Не то что нынешнее племя,
Богатыри, не вы!
После наскоро произведенного расчета и построения в походную колонну, двинулась в степь 1-ая рота. Хорошо быть в 3-м взводе, подальше от полковника Плохинского, хотя уже и облегчившегося, но все же представляющего из себя известную опасность, которую очень верно определил один еврей, декламировавший стихотворение Надсона: "Ну, пусть себе жаровня сковырнулась, а уголья еще жжуть!" Правда, в редакции самого Надсона, она звучала:
"Пусть жертвенник разбит – огонь еще пылает!"
Но нельзя же придираться к такой мелочи. Ну, вышла маленькая путаница, зато мысль передана верно!
И так – опять степь, бесконечная, широкая степь! И опять исполняют ноги свою нудную обязанность: шагать. Впрочем, не одни только ноги. Исполняет ее и дождь, холодной струйкой проникающий за воротники шинелей. Исполняют ее и носы, ощущающие наступления в них оттепели, и ладони, пытающиеся уничтожить ее внешние признаки, и спины и плечи, которые в своем стремлении ввысь, перерастают уши. Одним словом – весело!
И долго-долго будет продолжаться это веселье, пока не подкрадется к идущей по дороге колонне, сперва совсем маленькая, а потом все возрастающая и возрастающая, отвратительная и ехидная тварь: усталость! Ее поразительные способности, вскоре же после ее появления, позволяют ей внести полный беспорядок в раз принятые и добросовестно выполняемые обязанности: ноги перестают шагать, а начинают плестись; руки, занятые до тех пор уничтожением внешних признаков начавшейся в носах оттепели, теперь будут держать неизвестно откуда взявшиеся нервы, стараясь не дать им лопнуть; оставленные без присмотра носы, лишившись возможности скрывать происходящий в них химический – или черт его знает какой – процесс, откроют ему возможность бурного развития; спины и плечи, отказавшись от желания перерасти уши, ударятся в другую крайность, а именно будут стремиться опуститься до высоты бедер. И еще многое произойдет, что даст возможность капитану Згривцу любовно сравнить свой взвод с "мокрым курьем на нашесте".
Однако, для предупреждения появления преждевременной усталости, давно уже выработана целая серия тактических приемов и баражный огонь, по еще невидимому противнику, открывается издалека.
– Да э-э-э-х! Да, ы-ы-ы-х! – Этот устрашающий и нелепый возглас приводит в беспокойство капитана Згривца, который бросает тревожный взгляд на едущего впереди ротного, но убедившись, что тот не собирается оскоромиться по адресу возопившего, успокаивается и сам.
Проходит минут десять и тот же могучий возглас оглашает степь: "Да, э-э-э-х! Да,ы-ы-ы-х!"
– Лингварду опять вожжа под хвост попала, – говорит Згривец, более впрочем для проформы, да и на случай если взъерепенится Плохинский.
Тем не менее, это начало открытия военных действий имеет очевидный успех. После седьмого, или восьмого "да, э-э-х! да, ы-ы-х!", перестает тяжело сопеть прапорщик Штемберг, улыбается капитан Згривец, хохочет смешливый доброволец Платов и, пользуясь наступившим антрактом, готовится для второго действия веселый поручик Недошивин. Предвидя это действие, и все остальные собираются принять в нем участие, в скромных ролях хористов. Главным действующим лицом неизменно избирается прапорщик Вася Тихомиров, вокруг которого объединяется импровизированный хор, под управлением Недошивина, и начинает исполнять всем известную арию, из никому неизвестной оперы: "У Васьки четыре ноги!"
Но тут хор прерывается тоненьким голоском дисканта, не могущего согласиться с упущением одной, хотя маленькой, но важной подробности: "пятый – хвост!"
Хор начинает сначала и опять забывает упомянуть о хвосте, что тотчас же ставится ему на вид дискантом. В этой упорной борьбе между хором, видимо, не желающем останавливаться на мелочах, и дискантом, считающим эту мелочь чрезвычайно важной, и состоит все второе действие; причем продолжительность его прямо пропорциональна числу остающихся верст, о количестве которых никто не имеет ни малейшего представления. Впрочем, как-то раз, капитан Згривец, своей начальническою властью, указал хору на более важное упущение, добавив: "и ухи!".
Третье действие заключается в рассказе прапорщика Игнатова, по прозвищу "Архиерей", об обучении его сельским дьячком премудрости чтения по забытой теперь – и, слава Богу, исчезнувшей -системе, когда буквы именовались Аз, Буки, Веди и т.д. Раньше чем произнести слог, надо было назвать по имени каждую составлявшую его букву, затем следующий слог по тому же способу и, при прибавлении каждого слова, повторять все с начала. Галиматья получалась удивительная. Но то. в чем состояла ее прелесть, было не менее удивительным. "Архиерей" умел составлять такие фразы, которые не могли быть прочитанными – по старой системе – не только в присутствии барышень, но и более опытного дамского элемента, хотя, в нормальном чтении, имели самый безобидный характер.
Кончилось и третье действие, но… не кончилась степь и вообще неизвестно: собирается ли она кончаться? Во всяком случае, притворяется бесконечной. Хм… Что бы еще выдумать?
Рассказать разве какую-нибудь солдатскую сказку? Много рождалось их во время переходов и пользовались они большим и заслуженным успехом, несмотря на то, что их сюжет не отличался богатством содержания, а главную роль играли старые солдатские выражения, в большинстве позабытые и мало кому известные, воскрешение которых встречалось общим одобрением.
Но прибегнуть к этому последнему средству, для триумфального попрания усталости, не пришлось, так как внезапно появившийся генерал Марков принял организацию последнего развлечения на себя.
– Назар Борисович! (полковник Плохинский). Ведите роту для охраны железнодорожного переезда!
Это многообещающее известие предоставляет нам возможность, во-первых часа два просидеть на земле, хотя бы и мокрой, а во-вторых, бесплатно присутствовать на увлекательном спектакле единоборства орудия капитана Шперлинга, или полковника Миончинского, с красным бронепоездом, в котором победа не оставляет ни малейшего сомнения и в котором "царица полей" (пехота) принимает участие не в качестве страдательного элемента, а в качестве восторженного зрителя, награждая бурными аплодисментами окончание каждого раунда, если и не всегда кончающегося нокаутом противника, то неизменно выигрываемого по очкам.
Получив приказание генерала Маркова, рота ускоренным шагом вскоре достигает переезда, не имеющего ни шлагбаума, ни будки сторожа. Линия железной дороги идет по очень невысокой насыпи, уходя в обе стороны в ровную степь, насколько видит глаз. Сзади, на рысях, подходят два орудия и становятся у переезда. Одно из них обращает свое жерло и внимание направо, другое – налево. Рота располагается соответствующим образом, разделяясь на два амфитеатра, в пятидесяти шагах позади каждого орудия. Спектакль обещает разыграться на двух сценах. Следующие один за другим, два далеких взрыва, заменяющие удары гонга, оповещают нетерпеливых зрителей о поднятии занавеса, который начинает медленно раздвигаться, открывая глубокую сцену, полную толпой артистов.
В своей роли первого любовника, генерал Марков занимает центр авансцены, стоя на самом переезде и, похлопывая нагайкой по голенищу сапога, смотрит на проходящие мимо него пехотные части. В глазах идущих людей ясно видна завистливая горечь пасынков судьбы перед облагодетельствованной 1-й ротой, которая, хотя и чувствует порядочную влажность от намокшей земли в противоположной голове части своего тела, но относится к этому стоически и ни за что не согласится уступить свое привилегированное место.
На втором плане, за проходящими по авансцене частями, у молчаливо стоящих орудий, суетятся артиллеристы. Один из них, видимо обладающий самым живым и беспокойным характером, влез на телеграфный столб и, не находя иного выхода своей бурной энергии, рубит провода. В результате этой полезной деятельности, они теряют свое горизонтальное положение и, один за другим, начинают свисать к земле длинными веревками. Не удовлетворившись достигнутыми результатами, непоседливый наблюдатель самоотверженно усаживается на фарфоровые чашечки столба и, приложив к глазам бинокль и слегка покачиваясь по сторонам, смотрит в невидимую для зрителей даль степи, одновременно создавая в воображении капитана Згривца весьма красочную, но трудно представляемую себе картину "кобеля на гвозде". У находящегося за моей спиной второго орудия тоже наблюдается многообещающее шевеление и еще один "кобель на гвозде".
На третьем плане сцены – степь, на четвертом – полоска горизонта.
Между тем кончился дождик – или только отдыхает – и ушли вперед пехотные части. Исчез с переезда и генерал Марков, поскакавший куда-то обратно. Теперь появляются идущие рысью подводы и, подскакивая на рельсах, уносятся вперед по мокрой дороге. А на самом горизонте, обозначается маленькое белое облачко – красный бронепоезд! Вскоре он сообщает о своем прибытии высоко взметнувшимся фонтаном земли от гранаты, разорвавшейся в безопасной дали от переезда.
Все чаще и чаще взлетают струи черной земли, не принося никакого вреда. Товарищи бомбардируют третий план сцены – степь. Молчит орудие полковника Миончинского и, с высоты телеграфного столба, "кобель на гвозде" не считает нужным форсировать события.
Неожиданный разрыв снаряда за нашими спинами, с подошедшего с другой стороны второго бронепоезда, в непосредственной близости от переезда, заставляет нас произвести перестроение, то есть повернуться лицом к орудию Шперлинга. Предстоящая дуэль обещает быть захватывающим зрелищем и не заставляет себя долго ждать.
Разделенные коротким временем, раздаются два выстрела по наглому бронепоезду, вероятно тотчас же сообразившему, что он имеет дело с капитаном Шперлингом. Не ожидая для себя ничего доброго от этой встречи, он предпочитает отойти на более безопасную дистанцию и снаряды его рвутся уже значительно дальше. Не удовлетворившись этим ничтожным результатом, не способным привести в восторг зрителей, наше орудие вздрагивает в третий раз. Сидящий на столбе кобель приходит в необыкновенную ажитацию и, размахивая рукой, что-то кричит, что тот же Згривец переводит короткой и ясной Суворовской фразой: "Прямо по сусалам!"
Надо думать, что так оно и есть, ибо исчезает вившийся над горизонтом дымок, и прекращают рваться снаряды. Весь амфитеатр разражается бурными аплодисментами, а польщенный Шперлинг снимает фуражку и, приложив руку к сердцу, раскланивается на все стороны.
– Браво! Бис! – ревут благодарные зрители.
Теперь с этой стороны уже не предвидится ничего интересного, а потому весь зрительный зал обращается в другую сторону, откуда еще летят снаряды, все приближаясь к переезду, через который несутся, на дистанции в 50 шагов, подводы с ранеными. Стоя на самых рельсах, генерал Марков придает большей рыси тем из них кто, по его мнению, не проявляет ее достаточно энергично. С напряженным вниманием следит рота за начавшимся оживлением около орудия полковника Миончинского.
Неожиданно, в самый патетический момент, новый и не предвиденный программой элемент сосредотачивает на себе общее любопытство. Этим элементом является едущая мелкой рысцой подвода, с пятью или шестью пассажирами. Проезжая по дороге, между орудием и жаждущими хлеба и зрелищ зрителей, на переезде она натыкается на генерала Маркова.
– Что за люди? – гремит генерал.
– Мы – члены рады, слышится ответ едущих.
– Что вы члены – я вижу, а чему вы рады – я не понимаю, – с силой опуская свою нагайку на спины лошадей, рявкает генерал Марков.
Лошади, не ожидавшие удара, дергают и несутся через переезд, едва не поскидав на землю везомые ими радостные предметы, которые, провожаемые гомерическим хохотом всей роты, долго еще скачут по степи, очевидно опасаясь преследования.
Этот небольшой дивертисмент прерывается проснувшимся орудием полковника Миончинского, пославшего красному бронепоезду свой первый увесистый гостинец. Со своей удобной для наблюдения – но не для сидения – позиции, "кобель на гвозде" подает какие-то знаки, после чего раздается второй выстрел нашего орудия. Очень скоро экзальтированные жесты на столбе не допускают сомнения в том, что и второму бронепоезду "по суслам попало". Новый гром аплодисментов и новые крики "браво"!
Сойдя с переезда, генерал Марков идет, смеясь, к полковнику Миончинскому: "Не хотят сегодня воевать товарищи!" И, обращаясь к сидящему у дороги полковнику Плохинскому: "Назар Борисович, пошлите вперед квартирьеров".
Это радостное известие срывает лживую маску с лица степи, порождая сомнение в ее бесконечности. По два человека от каждого взвода поднимаются с земли и идут вперед. Вскоре встает и вся рота и снимается со своих позиций артиллерия. Сзади подходят какие-то части, вероятно арьергард.
В своем надоедливом постоянстве опять потянулась степь.
Прошли три-четыре версты и никакого признака станицы. Опять огласил степь скорбный возглас: "да э-э-э-х, да ы-ы-ы-х!" И опять пропели "У Васьки четыре ноги". И опять рассмешил прапорщик Игнатов прочтением фразы "попы пели с дьяконами": "покой око – по, покой еры-пы, покой око, покой еры-попы" и т.д.
Но вот, наконец, перед глазами появилась низенькая черточка плетней, защищающих станицу от наседающей на нее степи.
Под бодрые звуки песни, повествовавшей о том, когда пахнут розы и когда пахнут матросы, о пострадавшей балде некоего лорда Виорделя, с залихватским припевом "Эх, Матрешка, эх, Матрешка! Хороша ты наша жизнь!" вступила рота на улицу станицы. Жизнь рисовалась в сплошных розовых тонах, обещая каждому заслуженный отдых, сон, высушенную одежду, горячую пищу, словом все, что только можно себе представить для полного благополучия и благодушного сибаритства.
Увы! Этим греховным мечтам не суждено было осуществиться, третий взвод был назначен в полевую заставу. Мерсите вам ужасно!
Эта последняя фраза, в переводе на русский язык, означает: "Покорнейше вас благодарим!"
4-е марта 1918 г.
Я не знаю, кто рисует картины на экране нашей памяти. Он, неведомый, не запечатлевает автоматически всё что происходит. Он берет и оставляет только то, что ему нравится, бессовестно раздувая или уменьшая события, оттесняя на второй план то, что находилось впереди и выдвигая то, что находилось сзади. Одним словом, его творчество – художника, а не историка.
По мере того, как развивающиеся события происходят на поверхности нашей жизни, смена картин возникает в её глубине. Между первыми и вторыми имеется полная связь, но они не одинаковы и не сливаются вместе. Одна или другая картина поражает наш взгляд, а всё остальное остается в тени. Кто может сказать, с какой целью работает этот неутомимый художник, и для какой галереи предназначаются эти картины?
Но я собрал эти картины и сам оказался в их власти. Одну из них, особенно ярко запечатлевшуюся в моей памяти я назвал датой её возникновения: "4-е марта 1918 г."
Бой-под станцией Кореновской. В помощь 1-му Офицерскому полку придан один батальон Корниловского ударного полка. Общее командование в руках генерала Маркова. Мы наступаем вдоль железнодорожного пути, идущего по невысокой, постепенно снижающейся и уходящей в глубокую траншею, закрытую густыми посадками, насыпи. Корниловцы идут справа от нее, мы, Марковцы, слева. Красный бронепоезд стоит в траншее, скрытый посадками, откуда свинцовым дождем шрапнелей поливает наступающие цепи. Впереди, насколько видит глаз, черной чертой окопов пересечена степь.
Бой принимает затяжной характер. В помощь потесненным контратакой Корниловцам послана 1-ая рота Офицерского полка. Совместными усилиями положение восстановлено, и наша рота возвращается на свое место, где началась новая контратака "красных". Она тоже отбита. К нам скачет генерал Марков:
– Жарко?
– Жара, Ваше Превосходительство, почти нет патронов! Прикажите доставить!
– Вот нашли чем утешить! В обозе их тоже нет. Поскольку осталось?
– Штук по двадцать.
– Ну, это ещё не плохо! Вот когда останутся одни штыки – тогда хуже будет. Вперед!
Шагов на двести продвинулась рота и снова залегла, не в силах сломить сопротивление красных. Потери – более 10% состава. Впереди топографического гребня, длинной извилистой полосой протянулись густо занятые окопы противника. Оттуда непрерывно трещат пулеметы. Сколько их? Может быть десяток, а может быть и больше. Для того чтоб атаковать, надо добиться перевеса огня, а патроны нужно беречь.
Генерал Марков говорит что-то командиру роты, полковнику Плохинскому, который зовет к себе командира 3-го взвода и отдает ему приказание. Тот, в свою очередь, вызывает полуотделенного, поручика Якушева. Выслушав приказание, поручик Якушев собирает своих людей и объясняет задание: двигаться незаметно вперед, прижимаясь к железнодорожной насыпи, обойти "красный" бронепоезд и, двигаясь по посадкам и не привлекая к себе внимание красных, достигнуть моста через реку Кореновку и не допустить красных перейти через мост. Задача дана 12-ти человекам.
Выполнение этой, казалось бы, невозможной, задачи прошло с поразительной простотой, благодаря тому, что окопы на сотню шагов не примыкали к посадкам, а находившееся шагах в 50-ти охранение фланга не обратило на нас никакого внимания, очевидно приняв за своих. На их окрик мы ответили успокоительным жестом и прошли дальше, в траншею, где оказались рядом со стоящим там бронепоездом. Проходя под деревом, на котором сидел их артиллерийский наблюдатель, поручик Успенский задал ему какой-то вопрос, но ответа не получил. Затем мы, очень скоро и безо всяких препятствий, очутились на неширокой площадке, у самого входа на железнодорожный мост.
Если, до этого момента, я сохранил полное представление о развитии боя слева от насыпи, то всё дальнейшее осталось как отрывочные, плохо связанные между собой эпизоды, так как их заслонила новая, целиком потрясшая меня картина. Там, в пятистах шагах за нашими спинами, стоял "красный" бронепоезд, а здесь, перед нами, лежал тяжело раненый в бедро капитан Корниловского полка!
Если бы, на Страшном Суде, меня спросили: кто взял мост под станцией Кореновской, я бы ответил, не колеблясь: полуотделение поручика Якушева. И однако же, капитан был тут. Я хорошо помню то удивление, с которым я подошел к раненому. Он обратился ко мне с вопросом:
– Прапорщик, у Вас есть револьвер?
– Так точно, господин капитан.
– Потрудитесь передать его мне!- Слова эти были сказаны тоном приказания.
Помню, что в этот момент, за нашими спинами разгорелась сильная стрельба, с грохотом прокатил мимо нас "красный" бронепоезд, прошел мост и продолжал удаляться по высокой, хорошо видной насыпи. Мы открыли огонь по бежавшим к мосту, бросившим свои окопы, красным. Охватившая их паника была неописуема. На наших глазах они бросались в реку, пытаясь перебраться вплавь на другой берег. Вся поверхность реки была покрыта плывущими под нашим огнем "товарищами". Поручик Якушев приказал перескочить мост и, по возможности, преградить дорогу их бегству. Направляясь к мосту, я снова подошел к раненому Корниловцу.
– Господин капитан, "красные" бегут! Сейчас здесь будут наши и Вас вынесут.
– Неужели Вы думаете, что я соглашусь отягощать своим полутрупом и без того тяжелое положение Армии?
Даю слово, что в его ответе прозвучало искреннее удивление.
– Потрудитесь передать мне Ваш револьвер, – повторил он.
Я отстегнул и передал ему свой Маузер.
Кто оттеснил нас с того берега, почему мы снова оказались на этом – совершенно ушло из моей памяти. Всё заслонила картина: лежащий у моста и уже мертвый капитан Корниловец. На половину снесен его череп, лицо закрыто черной маской запекшейся крови, из откинувшейся правой руки вывалился мой тяжелый Маузер. Я взял его и снова прицепил себе на пояс.
Почти 50 лет отделяют нас от поразившей меня тогда картины. Она не утратила во мне ни всей яркости красок, ни разнообразия своих тонов. В течении почти 50-ти лет я, не переставая, задавал себе одни и те же вопросы и не находил на них ответа: Кто был этот капитан? Как мог он оказаться впереди нас? Как мог он быть ранен там, где ни один из "товарищей" не подозревал нашего присутствия? Куда девались те, кто был с ним?
Ничего, буквально ничего, я не могу объяснить себе и поныне. Не могу ответить и на, сотни раз возникавший во мне, вопрос: почему и зачем нарисовал именно эту картину работающий в моей памяти, неведомый мне художник?
Заяц
Одно из самых решительных сражений с Красной Армией на Северном Кавказе, отбросившем ее почти на сотню верст назад, было выиграно зайцем, при самоотверженной помощи, оказанной ему полковником Юрасовым.
Предупреждаю, что вовсе не следует думать о каком-либо техническом выражении, способным ввести в заблуждение неискушенного читателя. Нет, господа! Это был самый натуральный, стопроцентно чистопробный заяц, такой, как и все зайцы. От описания его внешности я воздержусь, так как я сам-то не слишком подробно разглядел его – до того ли тогда было! – а, кроме того, каждый из вас видел зайца и, следовательно, описывать его незачем. Но я все же сознаю необходимость объяснения моего столь смелого и, казалось бы, столь же невероятного утверждения, что бой был выигран только благодаря зайцу.
Но начать я должен немного издалека, а именно с кануна того дня, в который произошел этот, оставшийся для меня весьма памятным, бой. Зайца тогда еще не существовало или, вернее сказать, он уже существовал, но мы-то этого не подозревали и не интересовались его существованием. Начинаю же я с кануна боя, потому что в этот день прибыл в полк новый штаб-офицер, полковник Юрасов, впервые попавший на фронт гражданской войны и не имевший о нем, до того времени, ни малейшего представления. Приехал он, не то с французского, не то с Македонского фронта и, за неимением вакантной должности, был назначен "помощником командира" 1-го батальона 1-го Офицерского генерала Маркова полка. Эта фантастическая должность не накладывала на него никаких обязанностей, а потому и не давала никаких прав, за исключением права ночевать в штабе батальона, а в строю "болтаться" где ему вздумается.
Лет ему было за сорок. Одет он был в очень аккуратно пригнанную польскую бекешку, на голове – серая офицерская папаха, на ногах – теплые войлочные сапоги на кожаной подметке. Среди нас, одетых весьма и весьма своеобразно – в чем Бог послал! – он, только что прибывший, выгодно отличался своим, утерянным нами, офицерским видом. Попал он в штаб полка как раз к концу ведшегося нами наступательного боя, когда, уже разбив красных, мы находились в фазисе преследования. В этом бою он не принимал участия, а наблюдал его издалека и был приведен в состояние полного восторга нашими действиями. Появившись сейчас же после боя и отрекомендовавшись, он довольно неожиданно воскликнул: "Марковцы! Ваши имена должны быть записаны золотыми буквами на брильянтовой доске!"
– Не дороговато ли обойдется? – озабоченно справился один из нас.
– Пожалуй,- согласился полковник Юрасов,- ну, тогда брильянтовыми буквами на золотой доске!
– Это конечно дешевле,- сообразили все,- а на сэкономленные суммы купить папирос и выдать всем хотя бы по одной штуке. Ужас как курить хочется!
Юрасов немедленно вытащил свой золотой массивный портсигар, украшенный всевозможными монограммами, и угостил желающих. В минуту портсигар оказался пустым, и всем еще не хватило.
– Подождите немного, господа, – поспешно выходя из хаты, сказал Юрасов.
Вскоре он вернулся с большим чемоданом из желтой кожи, хранившим, как оказалось, целый склад английских папирос, которые он тут же начал раздавать присутствующим.
– Господин полковник, да Вам самому ничего не останется!,- запротестовали офицеры.
– Глупости, господа! Вы же терпели, ну и я потерплю, когда не будет.
Оставался он с нами до позднего вечера, много и увлекательно рассказывал и интересовался буквально всем, с чем нам пришлось сталкиваться за время нашей боевой жизни. Остроумию его и острословию казалось, не было предела. На всех он произвел отличное впечатление.
Курили в тот вечер с таким остервенением, что у меня, не курящего, начинало мутиться в голове и я несколько раз выходил из избы проветриться. Ко всеобщему удивлению, полковник Юрасов обратил внимание на то что никто не закуривал третьим от одного огня и попросил объяснить ему это, непонятное ему правило, что тотчас же и было исполнено*.
– Да верно ли, господа? – с большим сомнением прищурился Юрасов.
– Будьте у верочки, господин полковник! Тысячи раз на всех фронтах проверено. Аптекарская точность!
– А существуют ли и другие, столь же точные приметы? Вы, господа, понимаете, что человеку который, подобно мне, дорожит собственной жизнью, необходимо принимать все меры предосторожности!
Тотчас же сообщили ему весь перечень, весьма богатый, дурных примет, а в их числе и о зайце. Заяц особенно заинтересовал Юрасова, решительно не понимавшего как можно в бою гонять зайца.
– Вот обживетесь с нами -сами увидите! – ответили ему многозначительно.
Обживаться полковнику Юрасову пришлось не слишком долго, всего до завтрашнего утра, когда ему пришлось сдать экзамен по предмету полковых суеверий и блестяще его выдержать. Поздно вечером отправился он спать в штаб батальона, чрезвычайно довольный добытыми от нас сведениями, как по части зайца, так и другими, не менее драгоценными.
Разбудили нас на следующее утро еще до рассвета и по тревоге. Построились с молниеносной быстротой и двинулись вперед. Вскоре подошел к нам полковник Юрасов. Тотчас же его засыпали, вопросами: "что случилось? куда идем?"
– Навстречу Федьке идем.
– Какому Федьке?
– А леший его знает! Должно быть что-то вроде Соловья-Разбойника. У него, говорят, больше шести тысяч архаровцев. Большой бой будет!
– Ну, нас тоже около трех тысяч. Расшибем! Главное, за зайцем смотрите, господин полковник.
– Не пропущу подлеца! – энергично тряхнул головой Юрасов.
Обстановка постепенно выяснялась: к разбитым нами вчера частям Красной Армии подошла колонна Федько и теперь соединенные силы красных предполагали отнять у нас взятое вчера село. Предстоял встречный бой.
Обгоняя колонну полка, проскакал вперед инспектор артиллерии, полковник Миончинский, в сопровождении нескольких конных артиллеристов, а немного спустя прошел на рысях "Детский Сад" -4-ая батарея полковника Ф.А. Изенбека. Между тем, уже рассвело. Перед нами – ровная Ставропольская степь. Впереди – шагах в пятистах – топографический гребень, не позволяющий видеть, что происходит за ним. По нашу сторону гребня устраивается на позиции батарея Изенбека, а правее – еще одна, кажется не Марковская. На самом гребне маячат наши конные дозоры. Ни один выстрел не нарушает тишину степи. Нашу колонну разводят поротно. Продолжая сохранять походный порядок, роты идут к гребню, на предназначенные им участки.
Полковник Юрасов идет с нами, разговаривая с ближайшими офицерами. Не доходя полусотни шагов до гребня, садимся на землю и ждем дальнейших приказаний. Становится скучно. А кроме всего, разбирает любопытство: что делается за гребнем? Земля мерзлая, запушенная сухим снегом, лишь кое-где пролысины. Холодно, но ветра нет.
Вот и первое боевое приказание: "от середины, по линии, в цепь". Рассыпались и двинулись к гребню, где снова залегли и знакомимся с лежащей впереди местностью. Прямо перед нами начинается пологий скат, с полверсты длиной, а за ним ровная – насколько глаз видит – степь под белым, сверкающим искорками, саваном снега. Не то там больше снега, не то расстояние скрывает оголенные места. Красные цепи залегли у самого начала подъема и видны как на ладони. Расстояние: шагов 800/900. А в двухстах-трехстах между нами тянется неглубокая канавка, вероятно межа, разделяющая земельное владение двух собственников. Она – единственное укрытие на пути сближения с "красными" и, следовательно, первый рубеж для наступления. "Красные" очевидно, не подозревают, что на всем протяжении гребня, цепи Марковцев уже готовы к атаке. Нам запрещено "болтаться" по гребню и даже показываться.
К правому флангу нашей роты подскакивает еще одна батарея и становится в непосредственной близости с батареей полковника Изенбека. Мне, как правофланговому в нашей роте, совершенно очевидно, что мы ждем только готовности артиллерии. Вот, к только что ставшей на позицию батарее, подъезжает полковник Миончинский и, через минуту, одно из орудий посылает первую шрапнель в красную цепь. Перелет. Второй выстрел – и второй перелет!
– Полковник Фишер! Это японская шрапнель, с ней надо смелее!
Третий выстрел покрывает красную цепь. Обмен знаками среди артиллеристов, а по нашей цепи приказание: "приготовиться!" Еще минута и загрохотали частым огнем орудия. Бросились и мы вперед и залегли на линии облюбованной нами канавки.
Я помню еще, как мы поднялись и помчались на растерявшегося и смятого противника, но совершенно не помню силы обрушившегося на нас огня. А дальше я помню только зайца, внезапно выскочившего из-под какого-то чахлого кустика и помчавшегося от нас в сторону красных цепей. Дикий, торжествующий вопль вырвался из наших, запыхавшихся от бега, грудей. Увы, преждевременно!
Ни один большой встречный бой не выигрывается так просто. Домчавшись до красных цепей, заяц описал широкий полукруг и снова несся на нас. Успешность боя снова оказалась висящей на волоске и требовала мобилизации всех устрашающих средств, способных заставить зайца переменить направление. Охватившее всех волнение выразилось в полетевших в зайца со всех сторон папахах, фуражках и даже шанцевого инструмента!
Черным зловещим вороном взвилась над ошалевшим зайцем и шлепнулась о землю большая текинская папаха поручика Залеткина, а чуть позже просвистала шанцевая лопатка, едва не задев зайца. Роем потревоженных пчел замелькали сорванные с голов фуражки. За каскадом летевших предметов, я потерял из вида зайца и, вдруг, увидел его мчавшимся прямо на меня. Расстался я с моей драгоценной текинской папахой, но заячью атаку все же отбил. Обогнув меня, заяц попал на полковника Юрасова. Тот полуприсел, широко расставил руки и завыл таким страшным голосом, что у несчастного зайца не могло остаться и тени сомнения в том, что он имеет дело не иначе как с выходцем с того света. Сделав новый полукруг, он снова помчался к "красным", провожаемый усиленным, триумфальным воем. Однако, и у "товарищей" имелись вполне определенные сведения относительно оракульских дарований зайца, а потому и у них ему было отказано в гостеприимстве. Заяц снова несся на нас и, очевидно решив умереть от разрыва сердца, держал направление прямо на полковника Юрасова, поспешно стягивавшего с себя бекешку.
Произошедший турнир ярко запечатлелся в моей памяти. Схваченная за воротник бекешка, то описывала круги над его головой, то шлепала полами о землю перед остолбеневшим от ужаса зайцем. От ударов тяжелой бекешки по изморози и сухому снегу поднималась туча белой пыли, из-за которой слышались одновременно и визг раздавленной кошки, и рев взбесившегося гиппопотама, и конское ржанье, и улюлюканье загонщиков дичи. И всех этих ужасов, свалившихся на нее одну, не вынесла бедная заячья душа. Выкинув какой-то невиданный пируэт, он бросился назад и проскочил сквозь опрокинутые красные цепи, сопровождаемый вдогонку могучим, торжествующим "ура!"
Больше никакого сомнения – бой выигран! Выигран зайцем, при самоотверженной помощи полковника Юрасова!
Еще до вечера вошли мы в Сергеевку. Вся дорога, до самого села, была усеяна трупами "красных", среди которых лежал и труп их командующего – Федько.
Вечером, в отведенную нам хату, пришел, восторженно встреченный, полковник Юрасов. Его наперерыв поздравляли за оказание помощи зайцу в одержании победы, а он, возбужденный и взволнованный, махая руками, рассказывал нам о своих переживаниях:
– И вот ведь подлец! Я его – папахой! Я его – шубой! А где он – не вижу! Я – орать! Я – визжать! Думал уже – пропали мы, господа! Случай, господа, чистый случай! Но хорошо, что вчера предупредили, а то, черт его знает, чем бы все это кончилось!
* Закуривающий третьим от одного огня непременно будет убит в ближайшем сражении.
Пурга
Расплясалась злая баба-пурга, разметала по ветру седые космы, на длинные белые ленты лохмотья свои порвала. Несется, шаманит, кружит, сотней голосов по степи стонет. Гудит в телеграфных проводах, воет под крышами станционного поселка, по освещенным окнам неподвижных вагонов белыми полосами лохмотьев своих хлещет: ненавистен ей всякий признак жизни.
Ой, горе в степи, не только человеку, а и дикому зверю!
С визгом ворвалась пурга, космы седые в приоткрывшуюся дверь проструила.
– Командира второй – к командиру батальона! – расслышала.
Высокий офицер быстро прошел по вагону. Слышно, как стукнула за ним дверь. Взвыла пурга, с разбегу в спину его толкает, белые холсты под ноги стелет, идти поскорее торопит:
– Ступай, ступай, соколик! Разуважь меня, старую! До потехи то я большая охотница!
– Вторая рота, выходить, строиться!
Звенят котелки, гремят винтовки, скрежещут пряжки ремней. Будто затихла пурга. К заиндевевшим окнам прильнула. Смотрит: не обманули бы старую!
Нет, не обманули. Вот и дверь вагона открыли. Один за другим, спрыгнули на землю 40 человек и выстроились вдоль вагона. Короткие слова команды: рота идет на вокзал.
Как заголосит пурга! Вся в визг, да в хохот изошла: то-то будет веселье!
На белом перроне чернеют стройные ряды. Бесится вокруг пурга, больно сечет жесткими, обледенелыми плетьми волос своих по стянутым морозом лицам, страшное в ухо нашептывает:
– Не верь, человек! Берегись! Послушаешь – вместе с телом и душу погубишь!
– Ну, с Богом!
Колыхнулся строй, звякнул оружием и будто утонул в белой степи. Даже следа не оставил. Воет пурга!
Бежит, змеится телеграфная лента. Щелкает аппарат под привычной рукой телеграфиста. Низко опущена голова его, но недобрый огонек горит в глазах, следящих исподтишка за глядящим в заиндевевшее окно юнкером.
Эй, Сеня! О чем задумался? Возьми уши в зубы! Что там голосит тебе пурга? Куда ты смотришь? Ничего не видать в запорошенное снегом окно. Далеко позади, остались, преданные Керенским, юнкера, защитники Зимнего Дворца – твои товарищи. Не по их, уже догнивающим, останкам воет в селенье собака. Слушай же, Сеня, слушай! Да не пургу, не вой собачий! Слушай то страшное, что творится у тебя за спиной!
– Стой, телеграфист! Стой! Берегись! Не тайна стук твоего аппарата.
– Стой, себя пожалей!
С чего вдруг смолкла пурга? На минуту только примолкла. Слушает.
– Гуково, Гуково – трещит аппарат – Белые пошли на Гуково… Человек сорок!
– Прочь с аппарата!
Друг против друга стоят они, оба обезумевшие от страха, юнкер и телеграфист.
– Погиб! – стучит в мозгу телеграфиста.
– Поги-и-и-б! – вторит пурга.
– Капитан Добронравов… вторая рота… не смеет закончить леденящая мысль в голове юнкера.
– П-о-г-и-и-и-б-л-и-и-и! кончает пурга.
Ой, как пляшет пурга! Просто взбесилась проклятая баба! Голоса команды не слышно за визгливым хохотом её. Да что там голоса! Даже залп ружейный покрыла. Глаза так застегала, что ничего не видать!
Семеро прошло их на ту сторону путей, а назад вернулось только шестеро: с седьмым осталась пурга. Темную кровь белым снежком застелила и давай труп в тряпье свое пеленать. Да в такой ли пляс пошла, с визгом, с хохотом!
– Ну, ублажил! Ну, разуважил старую! Давно потехи такой не видывала! Люблю молодца за обычай! Даже душеньку свою не пожалел! Мой ты, мой, телеграфистушка!
Вот уж труп и совсем запеленала. Только носки сапог черными уголками торчат. А сама прочь понеслась. Туда, на Гуково. Вот там, так будет веселье!
Вспугнула, дорогой, старая ведьма бесовские табуны свои и понеслись они по степи, в безумном беге, заструив длинные хвосты, разметав волнистые гривы, в белой пене, белые кони. То быстрее ветра несутся они вперед, то станут как вкопанные, устрашенные диким воем пурги, то бросаются назад, храпят, сшибаются, громоздятся друг на друга, роняя хлопья белой пены, и в стонущем ледяном дыхании извергают, из широко раздутых ноздрей своих, целые потоки снежных водопадов! Страшна непроглядная белая степь, когда справляет свой шабаш, в необозримых пространствах её, бесовская сила.
Не найти, не вернуть поглощенную степью роту!
Наконец то угомонилась пурга. Далеко в степь коней своих угнала и сама, под кучей тряпья своего, распластала на земле усталое тело свое. Натешилась вволю, уснула старая.
Заскользила по темному небу призрачно-серебряная гондола месяца. Синими огоньками тысячей ночников заиграли степные снега. Не увидишь того, что творилось там, в заколдованном кругу бесовской пляски.
Лишь когда побежит от Востока светлое утро, свивая перед собой вуаль ночи, постепенно открываю всю, доступную взору, степь, только тогда увидишь, что натворила пурга. Увидишь, на догоревших кострах, сожженных живьем раненых. Заметишь торчащие из земли руки с обрубленными пальцами. Среди разбросанных трупов, в их искаженных нечеловеческой пыткой лицах, с трудом узнаешь дорогие черты умученных друзей твоих.
И если смутится дух твой, если леденящий ужас вопьется в сердце твое – то беги, скройся, забейся в самую узенькую щелку жизни! Не будь!
Но если вспыхнет в тебе горячее пламя священного гнева за поруганную русскую душу, за втоптанную в грязь честь Русского Война – то храни его глубоко в душе твоей, пронеси через степи казачьи, не угашай в суровых отрогах Кавказских гор, унеси с собой и в изгнанье!
Ни за токарным станком завода, ни за рулем автомобиля, ни в глубине черной шахты, и нигде, и никогда, не расставайся с ним! Им одним, и только им, смиришь ты бесовскую пляску пурги на необъятных просторах Земли Русской!
Упоминаемое мной имя – Сеня – относится к ст.порт, юнкеру Семену Козлову, сыну старосты артели носильщиков на Казанском вокзале. До поступления в школу прапорщиков – 3-ю Московскую – Семен служил телеграфистом на станции "Москва Торговая". Участник защиты Зимнего Дворца. В 1-м походе, и до него, состоял в "Подрывной команде", под началом поручика Зоненштраль. Убит в России, в 1943 г.
Дневка
Отгремели последние выстрелы. В вечерних сумерках стянулась в станицу 1-я рота, с полчаса потопталась на площади, в ожидании развода по квартирам и, наконец, вступила в обладание отведенными ей хатами.
Особенно удачно закончившийся бой, приподнятое, и еще не улегшееся настроение, сравнительно небольшие потери и предвкушение заслуженного отдыха являются причиной общей веселости. По компетентному заверению капитана Згривца, очередь несения наряда по охране Армии ложится на другие роты. Однако неожиданный вызов взводного к ротному командиру и долго продолжающееся отсутствие его порождают в сердцах оптимистов тревожное сомнение, а в сердцах пессимистов – черную меланхолию. Сияющее лицо возвратившегося Згривца мигом успокаивает всех, а следующее за ним известие о дневке наполняет сердца бурной радостью. Главное же основание торжественного состояния капитана Згривца зиждется на полученной от полковника Плохинского похвале за действия в бою 3-го взвода, о чем он тут же и сообщает.
Умеющий карать, капитан Згривец умеет и жаловать! Перечень налагаемых им кар не блещет разнообразием, но постоянно достигает цели. Коллективное наказание: "Слышь, почистить винтовки!" и, только один раз, назначение всего отделения в полевую заставу вне очереди, в особо тяжелом случае "Меврского оазиса". Индивидуальная кара одна и та же: караул вне очереди.
А награда? Она всего одна, но зато какая! Что значит, по сравнению с ней, награждение орденом Св. Георгия? Что значит производство в генералы? Что значит высочайший Рескрипт на ваше имя? Ничего не значат! И эту награду, в тот вечер, получил я, хотя решительно не помню, за что именно. Войдя в хату, капитан Згривец громко и твердо объявил: "Я теперь с Лингвартом и спать могу!"
Да не подумает кто-нибудь из читателей что-либо игривое и легкомысленное. Но я сознаю необходимость объяснить истинный смысл высшей награды и, таким образом, избавить всех от неправильного и греховного понимания. Капитан Згривец обычно располагался с первым отделением своего взвода, в одной хате и в страшной тесноте. Широкую кровать, стоявшую неизбежно в комнате, он считал своей неотъемлемой собственностью и горе тому, кто вздумал бы на нее покуситься!
Помню, что в одной из станиц, воспользовавшись отсутствием Згривца, мы уговорили добровольца Платова лечь на кровать. Вернувшийся Згривец долго, с гневливым недоумением, смотрел на это неслыханное нарушение установленная им этикета и назначил Платова внешним часовым, с объяснением причины наказания: "Ишь ты, какой взводный нашелся!" Сколько мы потом ни уговаривали Платова повторить опыт, он не соглашался, правильно считая, что ночь, проведенная в хате, хотя бы и в тесноте и на полу, но все же лежа, приятнее, чем стоя на холоде. На своей двуспальной кровати Згривец разрешал спать наиболее отличившемуся в этот день офицеру, и это разрешение считал высшей наградой для своего подчиненного. И вот теперь эту награду получил я.
Говорю совершенно серьезно, что для меня эта награда была особенно желанна и радостна не потому, что могла бы наполнить мое сердце гордостью. (Чем, между прочим, она его не наполнила и была бы в данном случае бессильна: лишенный необходимых будущей звезде человечества качеств, я был лишен и чувства честолюбия и, таким образом, гордость, за отсутствием матери, по раз принятому на земле правилу, родиться не могла.) А потому что, выраженная столь оригинально, награда эта разрешала одно из мучительнейших сомнений, терзавших меня со времени зачисления в Алексеевскую Организацию. Дело в том, что, наблюдая своих соратников, я приходил к заключению об их полном превосходстве надо мною и сознавал, что в их среде, я был не более чем жалкий подголосок и никогда не надеялся дотянуться до них, оставаясь плохой копией с хорошего оригинала. Теперь эта награда Згривца досталась мне и, полученная от этого "примус интер парес"*, означала принятие меня в ту среду, за которой я тянулся. Да, это была самая высокая из полученных мною когда-либо наград!
Но, нет розы без шипов! А шипами этой благоуханной розы были точные сведения, исходившие от награжденных ранее офицеров, о предстоящей мне кошмарной ночи. Широкая кровать, по всей вероятности, представлялась капитану Згривцу почетной эстрадой, на которую возводился прославляемый, но самому прославляемому она казалась средневековым эшафотом, где его ждали нечеловеческие пытки.
Згривец ложился на кровать со стороны стены, предоставляя авансцену эстрады прославляемому. Спал он на спине, держа свою раненую руку слегка на отлете, занимая, таким образом, две трети "жилплощади", остаток которой представлялся герою дня.
Засыпал он мгновенно, о чем возвещал таким могучим храпом, что приходилось только удивляться прочности казачьей хаты. Спал он крепко, но очень беспокойно, то отбрасывая руку, то неожиданно переворачиваясь на бок и тотчас же снова возвращаясь на спину. Если эти перекаты производились в сторону стены, не признававшей его начальнической власти и не желавшей подвинуться, то, встретив ее упорное сопротивление, они немедленно обращались в другую, более податливую сторону и лишали соседа последних остатков жилплощади. Бывали случаи когда, в результате этих повторных перекатов в сторону наименьшего сопротивления, лежащие на полу пользовались богатой возможностью высказать все то, что они думают о слетевшем на них, помимо собственного желания, "имениннике". А он, далеко не польщенный этим общим вниманием, высматривал себе какой-нибудь безопасный закоулок и устремлялся к нему, создавая себе, в продолжении всего долгого пути, все новых и новых "доброжелателей". Когда же, после многих акробатических упражнений, ему, наконец, удавалось достигнуть облюбованный пункт, то, присев на корточки и прислоняясь спиной к стене, он предавался скорбным мыслям о том, что если уж совсем нельзя обойтись без геройства, то в будущем надо быть много осторожнее и, во всяком случае, не привлекать к себе одобрительное внимание капитана Згривца.
Предупрежденный о всех грозящих мне опасностях, я заранее приготовил себе пристанище в образе длинной и узкой скамейки, на которую и переселился как только захрапел Згривец, не дожидаясь насильственного выселения. Эту ночь я проспал прекрасно!
Следующий день начался сразу двумя утрами: одно – смеющееся утро нашей молодости, а другое – обыкновенное мартовское утро, о котором и говорить не стоит.
Ревизуя скудное имущество своего вещевого мешка, поручик Недошивин определил, что сделанные им, несколько дней назад, запасы макухи истощились и требуют пополнения. С этой целью он обратился к хозяйке, прося дать ему кизяку. Такие слова как макуха, кизяк, нор-дек и т.д., услышанные впервые в походе, спутывались нами сплошь и рядом, что и случилось в данном случае с Недошивиным. Макуха – семена подсолнуха отжатого вместе с шелухой, а кизяк – большой кирпич, слепленный из рубленной соломы, коровьего и лошадиного помета.
На удивленный вопрос хозяйки: "да на што он тебе?", Недошивин ответил еще более изумившим ее объяснением: "а сосать!".
Употребление в пищу кизяка было, по всей вероятности, для нашей хозяйки в новинку, так как лицо ее выразило одновременно ужас, любопытство и неодобрение. А может быть, наслушавшись распространяемых тогда "товарищами" рассказов о том, что генерал Корнилов ест детей, она решила, что довольно понятно, что Армию свою он кормит чем-либо попроще. Во всяком случае, подойдя к печи, она взяла лежавший кизяк и подала его Недошивину.
– Зачем он мне? – в свою очередь удивился Недошивин,
– Да ты ж казав – сусать, – невозмутимо ответила казачка.
Обуявший нас всех смех вскоре перешел в настоящую истерику, так как капитан Згривец, обратясь к Недошивину, изрек саркастическую фразу: "ишь ты, сластолюбец!" А затем, отвечая на вызванную им реакцию, присовокупил: "вишь как ржут! Хоть бы глотки пожалели!" Хохотали тогда все и долго ржали, но больше всех – Недошивин.
Следующим острым переживанием, запечатлевшимся в моей памяти, была покупка нами петуха на соседнем дворе.
Продавшая его нам казачка, богатырского сложения, в широкой яркой юбке и такой же яркой кофте с засученными рукавами, приняла от нас деньги и, указав на гулявшего во дворе петуха, предложила нам взять его самим. Развернутой цепью, состоявшей из трех человек, двинулись мы на петуха.
Рассказывать обо всех ухищрениях, употребленных нами для вступления во владение нашим движимым и движущимся имуществом, было бы равносильно признанию понесенного нами поражения, а потому, не желая огорчать читателя, я остановлюсь только на описании пленения петуха, хоть и не нами, но для нас, что, в конце концов, и требовалось!
Во все время наших бесплодных попыток, наша богатырша не покидала крыльца, может из опасения, что заплатили за одного, а унесут троих и наблюдала, не скрывая своего презрения, за нашими беспомощными мотаниями по двору. Наконец не выдержала.
– Эх, не моя в вас ухватка! – с горьким упреком вскрикнула она и смело бросилась с крыльца на только что отразившего опасность пленения петуха.
Явно имея не нашу сноровку, она ухватила с двух сторон свою широкую юбку и, расширив ее, таким образом, раза в три, носилась по двору с неподозреваемой для ее комплекции энергией. Тактический прием, с успехом применявшийся петухом против нас и позволявший ему неожиданно проскакивать между нашими растопыренными руками и ногами, наткнулся теперь на удивительную подвижность и хитрость этой доморощенной Валькирии, в своем непрестанном наступлении воздвигавшей перед ним высокую и непроходимую юбочную стену. Когда же он, собираясь обогнуть это непреодолимое препятствие, бросался в сторону, то она одним прыжком – а при настойчивости петуха в проводимом им маневре, и несколькими – создавала у него впечатление бесконечности стены, чем приводила его в состояние полной растерянности и вызывала поспешное отступление к окружающему двор плетню.
Преследуемый по пятам неумолимой Валькирией и очевидно доведенный ею до полного отчаяния, петух решил перелететь через неподдающуюся обходу с флангов юбочную стену. Это необдуманное решение закончилось его гибелью. Схваченный за ноги петух был передан нам со строгим наставлением: "Смотрите, картузники, что б не выпустить!". По всей вероятности, сообразительная Валькирия сомневалась в наших даже самых скромных способностях. Исполняя ее наставления, мы осторожно несли петуха к себе в хату. Один держал его за голову, другой за ноги, третий за хвост. Таким торжественным кортежем предстали мы пред испытующие очи капитана Згривца.
Отведенная нам хата не имела хозяина, а только хозяйку, что объяснялось не ее вдовьим положением, а тем, что хозяин, вероятно, какой-нибудь иногородний имевший веские основания не встречаться с Добровольческой Армией, исчез. С одной стороны это было удобно, но, с другой, создавало много лишних хлопот в поисках той или иной необходимой вещи. Так, например, не желая беспокоить хозяйку, мы отправились на розыски какого-нибудь режущего предмета и ничего не нашли: ни ножа, ни топора, ни хотя бы косы. Правда, во дворе был обнаружен большой колун, но он не годился для расщепления петуха на порции, ибо грозил обратить его в лепешку при первом же ударе. Когда же выяснилось что нет и соли, то волей-неволей пришлось обратиться к хозяйке, в дальнейшее распоряжение которой и перешел злосчастный петух. Но даже и в ее опытных руках петух оказывал посмертное сопротивление и ни за что не хотел вариться.
Потерявший терпение Згривец отправился в полковой околоток, с целью сделать "мансаж" своей раненой руки. Вернувшись через час, радостно объявил, указывая на едва движущиеся пальцы: "Вот виш! Слышь, работает!" и приписал этот успех тому обстоятельству, что доктор "должно, книжку прочел". Общий взрыв хохота не испортил сохранившееся со вчерашнего дня радостное настроение Згривца, заявившего примирительным тоном: "Ну, чего вы опять? Ну, может и не прочел".
Однако, новый неудержимей смех заставил его переменить тему и справиться о состоянии петуха. Получив ответ, что тот еще варится, Згривец выразил предположение: "он, должно, кирпишный!", чем снова рассмешил всех. Со словами: "Да ну вас всех! И чего только ржут!" вышел из хаты и отправился во двор. Там, в это время, поручик Ершов (Вуколыч) был занят приготовлением чрезвычайно редкого, и долженствовавшего поразить всех блюда, по рецепту известному ему одному. Занятый сперва покупкой и ловлей петуха, а потом его приготовлением, я не присутствовал при всех необычайных предварительных исхищрениях для создания необходимых условий этому апофеозу кулинарного творчества.
Дабы не возбуждать аппетит читателей и не вызвать в них чувства зависти, я ограничусь описанием не самого блюда, а только впечатлением произведенном на терпеливых помощников и просто зрителей. Поиски всех необходимых элементов задуманного кушанья начались с самого утра и длились часов шесть! Задача оказалась не из легких, так как требовалось добыть не то ягненка, не то козленка, около двух ведер молока, какой-то всем известной на Кубани травы, оказавшейся почему то неизвестной жителям этой станицы, а потому замененной чем-то другим. Картошка тоже восполнила отсутствие трюфелей и каждая неотысканная овощь была заменена чем-то другим. Огромное количество дров и еще большее количество времени были последними условиями этой титанической работы. В конце концов, к двум часам пополудни, все было сложено в большой котел, и Вуколыч приступил к "священнодействию".
Первое непредвиденное обстоятельство слегка изменило первоначальный рецепт: молоко подгорело. А так как снять тяжелый котел с огня не представлялось возможным, то туда было приказано влить два ведра воды. Воспользовавшись отсутствием бегавших за водой поварят, молоко продолжало кипеть и бурной и неудержимой пеной бросилось вон из котла. Когда же процесс подгорания, перешедший в откровенное горение, был, наконец, прекращен, то выяснилось, что смесь остатков горелого молока с колодезной водой ничуть не уменьшил запах гари.
По распоряжению главного повара, всю находящуюся в котле жидкость отчерпали, с целью заменить свежей водой. Постепенно открывавшееся дно разрушило и эту последнюю иллюзию. В черной запекшейся массе, длинной растрепанной мочалкой окутывая ягненка (если это был не козленок), дымилась, хотя не разысканная, но какая-то другая трава, распространявшая вокруг себя ни с чем несравнимый по отвратительности запах, который Згривец, вышедши в сумерках из хаты, определил одним многознаменательным словом: "адиколон!". Спасти хотя бы козленка (если это был не ягненок) тоже не удалось, так как лежа всем своим боком на дне котла, он также подвергся разрушительной силе огня и, по своей духовитости, не уступал окутывающим его мочальным водорослям.
Убитые произошедшей катастрофой поварята, голодные и разочарованные, один за другим дезертировали со двора, оставив маэстро Вуколыча глаз на глаз с его "аблимантесом" (по выражению того же Згривца). Недолго выдержал духовитость своего творчества и сам автор. Открывшаяся во двор, для его пропуска в хату, дверь одновременно впустила подозрительный чад, принятый устрашенной хозяйкой за начало пожара и исторгнувший из ее взволнованной груди громкий крик: "Биже шь мий! Биже шь мий! Никак свинушник запалили!"
В мгновение ока сформированная вольно-пожарная дружина бросилась вслед за выскочившей во двор хозяйкой, где ее подозрение было опровергнуто самим свинушником, спокойно стоявшим в глубине двора и гореть не собиравшемся. Зато, по середине двора, в зловещем зареве ярко тлевших углей, черной угрюмой массой высился котел, виновник ошибочного предположения хозяйки. Из него, густым бурым облаком окутывая окрестности, поднималось неописуемое зловоние.
– Что б сразу залить этот аблимантес! – приказал возмущенный Згривец.
И когда приказание его было исполнено – котел наполнен до краев водой, а угли залиты – последовало новое приказание:
– Что б никто не спробовал! Оставляй на разживу товарищам! С ентова варева они беспременно забесятся!
Это мудрое приказание было исполнено с особым рвением.
Наступило новое утро. У нашей хаты собрались остальные отделения взвода. Тревожно поводя носами, застенчиво справились: "Чем это так воняет?" И получили исчерпывающий ответ: "Аблимантес!"
Екатеринодар. Хозяином собрания в роте Ставки Главнокомандующего единогласно был выбран поручик Ершов. Но если одно из подававшихся блюд не вызывало одобрения, то ему задавался ехидный вопрос: "А с этого аблимантеса не забесишься?"
На что он неизменно отвечал, прищуривая свой косой глаз: "Ну, вам то это трудновато. Вы ведь со дня рождения забесились!"
*Латинское: первый среди равных.
Бронепоезд
Ласково смотрит весеннее солнце в светлое лицо зачарованной им степи. Ожила она, красавица, дождалась своего суженого! Для него скинула она свое серое зимнее покрывало. Для него оделась в праздничные наряды свои, бархатными лентами свежей зелени разукрашенные. Для него готовит платье подвенечное из белой ткани расцветающих вишен. Глядеть на нее – и то радостно!
А тут еще и другая радость, будто сестричка ее родная, к сердцу ластится: встал, наконец, Тихий Дон и Кубань за ним поднимается. Стряхнули они с себя смрадные чары красной нечисти. Вслед за Воскресением Христовым воскресли!
И все кругом так радостно: и весело бегущие лошадки, и белые тряпочки на папахах восставших казаков, и приветливые лица казачек. Машут они белыми платочками, выносят глиняные чашки с варениками, смеются, улыбаются, подмигивают. Приветствуют 1-ю роту. Даже подводчики – и те веселы. Видно и в правду наступило что-то новое. Никому и в голову не приходит спросить, куда и зачем едут на подводах добровольческие части. Конечно в бой! Но разве может быть теперь что-либо серьезное? Так, военная прогулка, визит "товарищам". Завтра же, верно, и обратно!
Осталась позади станица, а впереди светлая радостная степь. На одной из подвод, веселый поручик Недошивин раздобылся большой миской с варениками, а поручик Успенский ухитрился получить целый кубан холодной вкусной сметаны и, кстати, чмокнуть на ходу закрасневшуюся красавицу казачку. Весело! Вареники со сладким творогом обмакиваются в сметану и исчезают во рту. Пиршество! С соседних подвод появляются гости и разделяют дорожную трапезу. Однако, необыкновенное скопление людей у одной подводы возбуждает любопытство взводного командира, капитана Згривца, видимо усмотревшего в этом нарушение порядка и считающего своей обязанностью его восстановить. Его встречают с особым радушием.
– Ну и будя! – говорит он, видимо довольный, вытирая усы, и, разогнав по своим подводам "гостей", бежит к своей. И смеется кругом степь и, радуясь на свою красавицу, смеется ей солнце.
В прозрачно-сером, все темнеющем плаще, медленно идет навстречу вечер. Пришел. И уже не серый. Снял он свой плащ. Стоит за ним, вся в черном, тихая ночь и обдает своим теплым дыханием. Словно растет она, до самого неба доходит, зажигает на нем звезды и выше идет, только подол своего платья по земле волочит.
Остановились подводы. Попрыгали на землю люди, построились и двинулись в непроглядную темень уснувшей степи. Черным покровом своим окутала их ночь, распустила черные косы свои и закрыла ими звезды. Руку вперед протяни – так и пальцев своих не увидишь.
– Рота, стой! – Долго стоит рота.
– Командира 3-го взвода к командиру роты!
И снова тягостное ожидание. И время стало: не то полночь, не то три, а может быть и больше.
– Поручик Успенский! – раздается голос капитана Згривца. – Шесть человек под Вашей командой для охранения фланга!
– Поручик Недошивин, прапорщик Штемберг, прапорщик Тихомиров, прапорщик Евдокимов, прапорщик Рубашкин, прапорщик Васильев – за мной!
Потонули в темной степи призрачные тени отделившихся от роты людей. Спит степь, ни звука, ни шороха. И снится ей: то припадая к земле, то согнувшись, медленно двигаются вперед, рассыпавшись редкой цепочкой, беззвучные людские тени. Вот залегли они и долго лежат неподвижно, слушая тишину ночи. Вот опять встали, двинулись вперед и снова залегли.
– Не бойтесь, родненькие, пусто кругом, никого нет! – шепчет им сонная степь.
– Г-н поручик, перед нами железнодорожная насыпь – докладывает идущий впереди поручик Недошивин – сажени три-четыре высотой.
– Поднимитесь на насыпь – приказывает поручик Успенский – и если не обнаружите противника, пришлите сказать. Возьмите с собой одного человека.
– Прапорщик Рубашкин, со мной!
В густой траве высокой насыпи осторожно ползут вверх два призрака. Достигли балласта, рассмотрели в темноте полоску ближайшей рельсы. Залегли, прислушались: ни звука! Вылезли на полотно и сели на рельсу. Что тут рассмотришь, когда и собственного носа не видно?
– Никого кругом нет – уверенно шепчет Недошивин – Не ждут нас "товарищи", спят. Да и охота им воевать, когда еще и черти на кулачки не бились. Зови Успенского!
И вдруг отдельный, сравнительно недалекий выстрел, за ним другой, третий и короткая беспорядочная стрельба. И опять все стихло. Ох, не спят "товарищи"!
– Это, вероятно, наши "красную" заставу сняли, – говорит поручик Успенский пришедшему за ним Рубашкину и, подняв лежащих возле него людей, идет с ними на насыпь. Недалеко, должно быть, и до рассвета: стало сереть темное до того небо. И на два шага не было ничего видно, а теперь и на десяток кое-что разобрать можно. Да, светает!
– Бронепоезд! – шепчет поручик Успенский и, встав на одно колено, всматривается в темноту – туда откуда, все нарастая и нарастая, слышится глухой шум и мерные удары колес по стыкам рельс.
– Ложись! Не двигаться! Не выдавать свое присутствие! – валясь между рельс рядом с Недошивиным и Рубашкиным, приказывает поручик Успенский. Четверо других соскользнули с рельс и лежат неподвижно у края насыпи.
Внезапно, вынырнув из расступившейся темноты, черной тяжелой массой накатывается железное чудовище. Медленно вертятся круглые диски колес и ползут над головой черные днища вагонов. Вот и колеса паровоза. Что, если опущена заслонка его топки? Тогда нет спасенья: в клочья разорвет она тела трех распластавшихся на пути офицеров! С землей слились они, сильнее к шпалам себя придавили и только тогда заметили, что прошел паровоз, когда снова завертелись перед глазами колеса вагонов, но только медленнее и медленнее, будто собираясь остановиться. Стали. Прямо над головой грязное днище вагона с полуопущенным люком.
– Успенский, Успенский, есть у тебя ручная граната?
– Не Успенский, а господин поручик! Лежать! – и в шепоте ответа слышит Рубашкин властную и грозную нотку.
И вдруг загрохотал бронепоезд, ливнем свинца в степь брызнул. От тяжелых ударов его мощных орудий сотрясаются вагоны и дрожат под ним рельсы. Долго гремит его непрерывная пулеметная стрельба и грохочут орудийные выстрелы. Почему молчат наши?
Но вот, прерывая грозный монолог бронепоезда, ворвалась и новая нота. Это уже не выстрел, это – близкий разрыв! Второй, третий, четвертый. Все чаще, все ближе! А вот и что-то другое: к треску разрыва присоединяется еще новый звук, не то скрежет, не то звон.
– Прямо в него! – торжествующе шепчет Недошивин и тычет пальцем в днище вагона.
Вздрогнул бронепоезд, стукнулись друг о друга буфера и все скорее и скорее завертелись назад колеса. И никто не заметил, как прокатил над головами паровоз. С грохотом пронесся и последний вагон. Кругом разливается свет пасмурного утра. Смолкли пулеметы, изредка огрызаются еще орудия. С минуту лежат на полотне неподвижно люди, только поручик Успенский чуть-чуть приподнял голову и смотрит вслед ушедшему бронепоезду.
– Встать! – и, полусогнувшись, идет к противоположному краю насыпи, но, не пройдя и трех шагов, падает и, маша рукой, зовет к себе свою маленькую группу.
Там, по ту сторону, не далее сотни шагов, густые цепи "красных" идут к насыпи. Первая цепь уже подошла к ней и начинает взбираться по крутому откосу.
– Огонь!
Лихорадочно затрещали семь винтовок, почти в упор, едва целясь. Бросились назад "товарищи", на сотню шагов отскочили и открыли беспорядочный и безопасный огонь по неожиданному и невидимому противнику.
– Назад! Скорее! – приказывает поручик Успенский.
Кубарем скатываются с насыпи семь человек и бегут по уже довольно высокой траве, прочь от грозящего появиться противника. Более чем на четыреста шагов отбежали и залегли в неглубокой канаве – дух перевести. Только теперь оделся гребень насыпи черной щетиной "красной" цепи. Но она не идет вперед, видимо, стараясь открыть неизвестно куда исчезнувшего врага. Спрятала его степь в складку одежды своей и не выдает "красному" глазу. Но уже передохнули семеро и поползли дальше по дну канавы. Изредка поднимется одна голова, посмотрит на насыпь и опять спрячется. И дальше ползут они, туда, где должна быть их рота. Долго ползут. Показалось ли им, или вправду что-то шевельнулось? Человек? Свой? Чужой? В четырнадцать глаз впились в скрытую травой фигуру. Капитан Стасюк! Наша рота!
Да, это первая рота. Невидимая, лежит она в канаве и держит под наблюдением железнодорожную насыпь. Ни выстрела, ни звука, ждет, когда начнут спускаться занявшие ее "товарищи". Сразу отлегло от сердца. Опять вместе, кончился кошмар и не пугает готовящаяся атака. Не впервой встретит рота "красные" цепи, не впервой огорошит их неожиданным огнем и бросится на растерявшихся "товарищей", и погонит их, и на плечах их ворвется в станицу.
– Прапорщик Евдокимов, ступайте к взводному командиру и доложите о скоплении противника за насыпью, в обход левого фланга роты. – уже не шепотом отдается приказание и в знакомом голосе поручика Успенского слышится привычная речь и вливает спокойную уверенность.
Куда спряталось вчерашнее солнце? На сером фоне неба темной полосой тянется насыпь. Вправо, ровная как стрела, дотянулась она до моста через неширокую речку и спряталась за ним. Влево, все понижаясь, резко свернула она направо и исчезла в железнодорожных посадках, откуда, перед рассветом, так неожиданно вынырнул бронепоезд – верно там и стоял, может быть всего в двадцати шагах.
Но не время смотреть по сторонам, не время вспоминать то, что вместе с черным покровом своим, свернула и унесла с собою ночь. Смотри туда, где на гребне насыпи изредка появится человеческая фигура, постоит и исчезнет. Прямо перед собой смотри!
От свежего, сочного, весеннего стебелька отгрыз прапорщик Рубашкин небольшое – не длиннее спички – коленце. Поставил его на большой палец, сверху указательным придавил и, вытянув вперед руку, смерил появившуюся на насыпи фигуру. Вовремя смерил: 600/700 шагов.
Зубцами частого гребня встопорщилась насыпь: поднялись "красные" цепи и стали спускаться на ровную скатерть степи. И тотчас же начали рождаться над ними белые облачка шрапнельных разрывов. Махровыми, снежно-белыми, фантастическими цветами расцветают они на скате насыпи и гремят позади роты сеющие их орудия.
Молчит рота, затаила дыхание и ждет.
Кроваво-красными цветами, в ореоле желтовато-бурых широких кустов, распустились в "красных" цепях разрывы бризантных гранат. Все медленнее движутся "товарищи", все чаще залегают, все неувереннее их шаг. Не далее чем через минуту, губительным огнем встретит их пока еще молчаливая рота, бросится на первую смятую цепь, опрокинет ее и погонит назад, на другие цепи, и увлекут они и других в своем неудержимом бегстве. И воцарится тогда властительница толпы – Паника. Сметет она обезумевшими толпами бегущих, всех кто вздумает сопротивляться ей, обезоружит рабов своих и передаст их смерти. Так было всегда, так будет и теперь!
– Прямо по цепи! Дистанция 300 шагов! Огонь!
Словно крупный град забарабанил по железной крыше. Частыми, отчетливыми трещотками ворвались и покатились по всему фронту роты резкие голоса пулеметов, чаще загрохотали орудия. Адский джаз-банд, джаз-банд боя!
Не выдержала "красная" цепь, не выдержала и бросилась назад. И бросилась за ней 1-я рота. Разворачивается бой как выученная наизусть сказка. Все так и должно быть в ней и конец ее заранее известен.
Вот уже и нет "красных" цепей. Перемешались они и густыми неуправляемыми толпами бегут назад к насыпи и, сбиваясь в кучи, несут тяжелые и ненужные потери. Ни к сопротивлению, ни к самосохранению не способно теперь это обезумевшее стадо.
Ясная задача стоит перед ротой: вскочить на насыпь на плечах бегущего противника, не дать ему опомнится и закончить разгром его с удобной и неприступной позиции. В своем быстром движении вперед оставила она далеко позади своего командира. Не догнать уже пожилому полковнику Плохинскому несущуюся вперед молодежь! Отстал он, шагов на триста отстал, а до насыпи и двухсот не осталось. Последнее усилие, последнее испытание крепости сердца, а там можно уже и передохнуть и ему дать отдых. Устало оно от долгого бега, ударами молотка в груди стучит, нужен ему отдых!
И вдруг оборвалась заученная наизусть сказка, на полуслове оборвалась, заглушенная стремительным треском "красных" пулеметов. Густой щетиной резервов обросла насыпь и свинцовым дождем облила цепь первой роты. Будто стальные бичи полосуют истерзанную грудь степи. Залегла рота, ни вперед, ни назад. С высокой насыпи, как на ладони, виден каждый стрелок цепи. Видны они все, прошедшие через Лежанку, Березанскую, Выселки, Кореновскую, Усть-Лабу, Гначбау, Ново-Дмитровку, Григоре-Афинскую, Екатеринодар, Медведевскую. Выбирай любого! Вон лежат они в десяти шагах друг от друга, и не видят друг друга, и не знают: убит или не убит еще сосед!
– На дистанцию пятьдесят шагов! Отходи по одному! – передают приказание капитана Згривца.
Широка степь, да не велик на ней человек: коли не давать в него целиться, так и не попадешь. Редкий, но прицельный огонь по насыпи, по всему что только шевельнется на ней, поможет ему отбежать на пятьдесят шагов и оттуда поддержать отход товарища.
Поднялся первый, отскочил на пятьдесят шагов и залег. Следующий. И он отбежал. Третий поднялся, всего несколько шагов пробежал, упал и не поднялся. Кысмет!
Долгим, бесконечно долгим, кажется быстрый отход взвода. Но вот и последний – капитан Згривец. И тотчас же новый приказ:
– Отходить по одному!
И снова не все достигают нового рубежа. Кысмет!
Но вот, наконец, и исходная канава. Первое укрытие, первый вздох облегчения.
– Капитан Згривец, примите роту!
На сером, землистого цвета лице полковника Плохинского лежит печать полного отчаяния. Уже во второй раз видит его таким прапорщик Рубашкин, во второй раз передает он командование ротой капитану Згривцу. Или очки потерял, или… сердце. Не таков полковник Плохинский: ни тяжелая боевая обстановка, ни безвыходность положения не смутили бы мужественного командира, не смутила бы его и верная гибель! Может быть потери? Ему одному известны они и только один он может оценить их значение, как и тогда под Екатеринодаром.
– Рота, слухать мою команду! – во весь рост поднялся капитан Згривец и, с хриплым вздохом, упал навзничь. Убит наповал!
– Выньте документы – указывая на отдувшийся карман его гимнастерки, приказывает полковник Плохинский – и дайте сюда.
Склонился над телом своего командира прапорщик Рубашкин, снял с его груди лежавшую на ней неподвижно руку и вынул из кармана гимнастерки небольшую книжку. На черном коленкоровом переплете вытиснен восьмиконечный крест. Отвернул переплет. Поминальник. Заглянул на первую страницу. Старательным, но неровным почерком исписана она длинным столбцом имен. Только первое имя успел прочесть: раба Божия Владимира*. Дальше не выдержали нервы. На мертвой груди только теперь вполне понятого им человека судорожно зарыдал Рубашкин.
– Прапорщик Рубашкин, возьмите себя в руки! Ступайте в цепь, "красные" наступают!
Но не слышит Рубашкин. Только тогда и опомнился, когда почувствовал, что кто-то тянет его за собой. Узнал поручика Недошивина
– Згривец убит!
-Да!
И в коротком ответе, и в закушенной зубами губе, и в выкатившейся из глаз и сбежавшей по щеке крупной слезе – словно разделилось и облегчилось непосильное одному горе. Згривец убит!
А в это время впереди, снова спустились с насыпи "красные" полчища и идут на поредевшие ряды роты. Вон и слева появились густые цепи и заходят во фланг. И ни одного человека в резерве, только гремят без перерыва наши орудия. То здесь, то там, рвут они широкие бреши в бесконечных и бесчисленных цепях противника, но не могут остановить его. Да и орудия "красных" не остаются в долгу: много белых цветов шрапнели посадили они над линией роты, много фонтанов черной земли подняли их гранаты, много кроваво-красных цветов расцвело вокруг роты. Частый огонь ведет она по наступающим и знает, что не удержит их, разве что нанесет большие потери. Одна надежда на пулеметы.
В чем дело? Почему остановились "товарищи" и назад отходить стали? Видно что-то неладное творится у них. И орудия их как будто смолкают, и бегут назад к насыпи грозившие охватом "красные" цепи.
– Рота, вперед!
Поднялась рота и вперед двинулась. Но какая маленькая! Совсем не такая как та, что атаковала и погнала "товарищей" к насыпи. Или не все приказание слышали? Или не видят они, что не отступают, а бегут "красные", все более теряя порядок и бросая оружие?
Бежит в цепи роты и прапорщик Рубашкин, бежит и не понимает, почему бегут "красные". И не понимает он, почему не слышно треска от разорвавшегося перед ним снаряда и почему, в высоком размахе, закачалась перед ним степь, почему пропало небо и почему опускается он в глубокую черную яму.
Новочеркасск. В госпитале Общества Донских врачей, в большой светлой палате, с рядами белых, покрытых чистым бельем кроватей, в больничных халатах, кто на костылях, кто с забинтованной головой, кто с перекинутыми через шею полотенцами, поддерживающими широкие лотки с покоящимися на них загипсованными руками – вспоминают офицеры 1-ой роты все перипетии боя у Сосыки и погибших в нем товарищей.
– Господин поручик, – обращаясь к Успенскому говорит Рубашкин – почему тогда побежали "красные"?
– Брось ты поручика! Здесь мы не под колесами бронепоезда. Почему побежали? Да потому что генерал Марков с Кубанским полком в тылу у них, и станцию и станицу занял. Куда же им было деваться? Все почти в плен попали.
– А бронепоезд? Каким образом мы его только в последний момент услышали, когда в царившей тогда тишине его за версту услышать было бы можно?
– А он и не подходил, а попросту там и стоял. И если бы не началась эта бессмысленная ночная стрельба, то, вероятно, мы оттуда и ног бы не унесли. Тем только и спаслись, что он еще в темноте двинулся и нас не заметил. А все Недошивин. Пройди тогда на три шага в сторону, так на него бы и наткнулись!
– Ну, возражает Недошивин,- если бы мы об него мордами ударились, то и тогда бы не заметили, уж очень темно было.
– Успенский, а почему ты мне тогда гранату не дал, да еще и одернул? Я же знал, что у тебя есть.
– А потому и одернул, что больно горяч ты, Рубашкин, а в нашем деле только одна воля могла быть, что я тебе и напомнил. А гранату не дал я тебе, что бы семи лишних трупов не было, и безо всякой пользы!
Примечание: под именем Рубашкина, автор вывел самого себя.
* См. рассказ-портрет: "Капитан Згривец"
Я и свинья
Если, базируясь на заглавии этой своеобразной повести, кто-нибудь предположит, что героями ее являются уже названные два действующие лица, то он ошибется в том только, что назовет их героями, ибо в свинье нет ничего героического – свинья есть просто свинья. Что же касается другого персонажа, то в его поведении тоже не было ничего достойного прославления, а одна только игра духа.
Вкратце, остановлюсь на описании места, обстановки и всей декорации, на фоне которой произошло это событие. Так сказать, создам рамку для будущей картины и, кстати, поставлю на ней и дату – да ведают потомки православных – 17-ое марта 1918 г. Станица Новодимитриевская.
Стаял, два дня тому назад, покрывавший станицу снег и превратил в непролазную грязь, на ее немощеных улицах, Кубанский чернозем. Только вдоль домов вытоптаны узкие тропинки. Со стороны улицы, выше колена поднимается отвесная стена грязи, местами сваливающаяся на тропинку. Идешь как по траншее. А идти необходимо! Потому необходимо, что в сердце теплится надежда на доктора Ревякина, в смысле приведения к нормальным размерам моей, распухшей до непозволительных размеров, физиономии. Два дня тому назад, при взятии станицы, она слегка пострадала от "красной" пули. Рассказывали мне потом, что, падая, я сделал ни на чем не основанное заявление: "я убит!" Сам я этого не помню, ну а если вправду сказал, то должен сознаться, что похвастался. Зубы то мне, конечно, выбило, но сам я, остальной, в данном случае, выздоровел.
Итак, иду я в наш околоток, а расположился он на первой перпендикулярной нам улице, почти рядом со штабом роты. Что уж там со мной делали – не помню. Может быть, только то и сделали, что утешили и назад в роту отпустили. Вышел я и только собрался, по узкой траншее, домой возвращаться, как заметил, что дорога моя перерезана непреодолимым препятствием: лежит передо мною большая свинья, и тушей своей мне путь преградила. Хоть в грязь лезь! И лежит она ко мне задом, с видом величайшего равнодушия. Попытался я ее слегка ногой толкнуть, а она и не пошевелилась. Посильнее толкнул. Она только задними ногами шевельнула и продолжает лежать. Начал я ее пинками бомбардировать. Поднялась она, несколько шагов сделала и опять легла. Подошел я к ней и повторил свою бомбардировку. Поднялась она опять и легкой рысцой сперва вперед побежала, а потом снова легла.
И вот тут-то и зародилась во мне некая коварная мысль. Сам я тогда есть ничего не мог и одним молоком изредка удовлетворялся, но что такое вкусный кусок свинины, ясно себе представлял. Так вот, захотелось мне свой взвод угостить. Грех небольшой, а идея хорошая! Да и до помещения взвода недалеко оставалось: до угла – 50 шагов, да за ним столько же.
Поднял я свинью обычным уже способом, а за ней и сам в легкую рысь перейти собрался, чтобы не дать ей остановиться, как вдруг слышу над собой монотонный и грозный голос полковника Плохинского.
– Прапорщик Р., куда Вы свинью гоните?
Поднял я голову и вижу, прямо над собой, в открытом окне ротного командира, гневно наблюдающего картину нашего единоборства.
– Господин полковник, свинья сама бежит! – и в произнесенной мною ответной фразе, как и в ее интонации, сияет, в чистоте звезды утренней, вся безгрешность моих намерений.
Однако, несомненно, замеченные полковником Плохинским, мои недавние агрессивные действия заставляют его подозревать коварство моих замыслов. А свинья? Это – вполне заслуживающее свое прозвище – животное опять спокойно улеглось на дороге и, кажется, не собирается двигаться дальше. В тяжелом раздумье, в трех шагах от ротного командира, стою я над ней, не смея обеспокоить Ее Величество Свинью, дабы не навлечь на себя громы и молнии, и глубокой ненавистью к ней наполняется мое сердце.
Если посмотреть со стороны, то невольно встанет перед глазами то, что именуется в театре "немая сцена": лежит свинья, стоит позади ее офицер и над ним, полувысунувшись из окна, фигура полковника Плохинского. Свинья не выражает ничего, офицер – полную растерянность, полковник – гневливое любопытство. Не стоять же до вечера над проклятой свиньей! Нужна диверсия. Начал я ее слева обходить, а правой ногой пинка ей дал, для того, что б она с тропинки в грязь не бросилась, а прямо вперед побежала. По моим расчетам, полковник Плохинский маневра моего видеть не мог, а покорность моя сама в глаза бросалась: идет, дескать, человек деликатный и свинью пытается сторонкой обойти. Что ж тут подозрительного? И опять слышу я позади знакомый монотонный голос:
– Прапорщик Р., оставьте свинью в покое!
Обернулся и вижу, что полковник Плохинский на полкорпуса из окошка высунулся и, конечно, диверсию мою разглядел. Я и отвечать ничего не стал, все равно не поверит. Опять повторилась немая сцена, но только с той разницей, что полковничья фигура еще дальше из окошка высунулась. Что же до нас, то мы со свиньей в старой позе застыли: она на тропке лежит, а я над ней верным часовым стою, покой ее охраняю. Дослужился!
Подумала ли свинья, что снова ей задом своим пострадать придется, или ничего не подумала, но только поднялась она и вперед пошла. Прошла несколько шагов и снова остановилась, очевидно, раздумывая, следует ли ей продолжать движение. А я на месте остался, дабы не укреплять, переходящих в уверенность, подозрений полковника Плохинского. Стою я и не оборачиваюсь, но уверен, будто глазами вижу, что еще больше высунулся он из окна и не упускает из вида ни сажени поля боя. А свинья подумала, подумала и дальше пошла, и всего-то в каких-нибудь десяти шагах от угла находится. Там, как раз возле угла, грязь обвалилась и ей свободный выход из траншеи возможен. А, кроме того, и другая опасность имеется: а ну как, вместо того, что бы направо свернуть, она налево отправится, там две траншеи сходятся и левая на ту сторону улицы ведет. Пропала тогда для меня свинья, безвозвратно пропала!
Обернулся я и сразу убедился, что все мои предположения, относительно полковника Плохинского, полностью оправдываются. Высунулся он из окошка так, что скорее в горизонтальном положении оказался – (как только не вывалится!) на животе, что ли, лежит? – и обоих действующих лиц из глаз не выпускает. Пошел я вперед, умышленно шаг замедляю и свинью в зад гипнотизирую: "направо, свинья ты этакая, направо!". Я за ней в это время, шагах в десяти позади находился, и для большей убедительности еще тише пошел, так что полковник Плохинский теперь мог собственными глазами убедиться в отсутствии всяких черных замыслов и в кротости моего поведения: я, мол, сам по себе, а свинья сама по себе, и вообще мы друг другом не интересуемся!
То ли гипноз на свинью подействовал, то ли самой ей так захотелось, но только она действительно направо за угол свернула, безо всякого физического принуждения. А мозги мои, хоть и в распухшей голове, дело свое делают – соображают. Вот и сообразили они, что раз свинья направо свернула, то деваться ей уже некуда и, как только я за углом буду, то тут и мне в рысь перейти можно и ей живости придать. Так, не торопясь, дошел я до угла и вижу, что на мозги жаловаться не приходится: свинья, действительно, в пяти шагах опять на дороге лежит. Ну, тут-то я тотчас же ее, на рысях, атаковал и в бегство обратил. Так мы с нею, в галоп, до двора хаты и прискакали!
Объяснять своим, в чем дело – не приходилось. Они об остальном и сами догадались, тоже не лыком шиты! Поручик Ершов-Вуколыч – сразу на себя все остальные хлопоты принял, да и другие ему помогли. Двор хаты был отгорожен плетнем, за которым огород находился, а огород, в свою очередь, другим плетнем от степи отгорожен был. Вот за этот-то второй плетень ее и потащили для ликвидации.
Я в хате остался, подозревая, что полковник Плохинский, того и гляди, во взвод заглянет, убедиться в отсутствии во дворе своей протеже. Так оно и вышло. Визит полковника Плохинского не заставил себя ждать. Во дворе никаких признаков пребывания свиньи обнаружено не было, а в хате, в мученическом выражении моего лица, прочел полковник Плохинский такое страдание, что, вероятно, устыдился своего чудовищного подозрения. Я как раз против зеркала сидел и, на самого себя глядючи, тоже удивлялся: как же это меня до сих пор живьем на небо не взяли, потому – одна святость и никакого свинства.
По окончании полковничьего визита, капитан Згривец мне по секрету сообщил, что полковник Плохинский очень интересовался: вернулся ли я из околотка один, или в обществе некой внушительной особы и успокоился, получив заверение в полной моей невинности. Почесав за ухом, Згривец добавил: "Ох, смотри, узнает – расстреляет!" Ну, это я и сам знал. Два дня подряд, весь взвод свининой угощался и Згривец тоже.
Однако история не совсем на этом закончилась. В тот же день пришла казачка с жалобой, что, дескать, кабанка загнали. Спасибо, что не попала в штаб роты! Заплатили ей по-царски, но, по-моему, не слишком дорого. Могло бы гораздо дороже обойтись. Во всяком случае, мне!
Горлач сметаны
2-й Кубанский поход. Первый Офицерский генерала Маркова полк наступает на станицу Екатериновскую. Наша 1-я рота пополнена, в своем составе, казаками-кубанцами, взамен павших в 1-м Корниловском походе. Но нет уже ее доблестного командира, полковника Плохинского. Нет и старых командиров взводов. Ротою командует единственный уцелевший из них – капитан Анатолий Поляков. Нет и нашего взводного – капитана Згривца, Взводом командует штабс-капитан Василий Михайлович Крыжановский. Нет и половины старого состава роты, украсившего именами своими длинный синодик "рабов Божьих, за други своя живот свой положивших".
Кое-как подлечившись, вышли из госпиталей и заняли места свои в строю офицеры нашего 3-го взвода: получивший дар речи Миша Смиренский, "отдышавшийся" после прострела обоих легких Шура Тарабанов, меланхоличный Якушев, шествующий в прихромку в строю Жорка Залеткин, и Костя Недошивин – еще не вполне уверенный в мощности своих наскоро "склеенных" рук, Сева Крыжановский, потерявший фунта три мяса после знакомства с пулей ружья "Гра" (1870-го года!) и многие другие.
Дух Згривца не умер: во взводе царит та же сильная спайка прошедших "огонь, воду и медные трубы" людей, та же вера в успех, то же безумное дерзание солдат генерала Маркова, те же песни, то же веселье молодости.
Первые числа июля. По открытой степи, под жгучими лучами летнего солнца, редкой цепью развернулась 1-ая рота. Со стороны противника ни выстрела, ни разрыва хотя бы одной шрапнели. Так и прошли мы вперед, пожалуй что, с версту. Если бы не жажда, то, вероятно, никто бы не имел ничего против этой мирной прогулки. Однако, все усиливающееся желание напиться начало вызывать раздражение и критику нашего необъяснимого строя. По адресу капитана Полякова послышались едкие и неодобрительные замечания. Взводные остроумцы принялись уверять, что новый ротный производит обучение рассыпному строю, не будучи уверен в наших жидких познаниях в этой области. Особенно негодовал Недошивин, до дна опорожнивший свою баклажку и не видевший иной возможности утоления жажды, как упиваться излиянием своей желчи на голову того же Полякова.
Перед нами продолжала расстилаться ровная кубанская степь, слегка поднимавшаяся к горизонту и не хранившая никаких признаков присутствия противника. Далеко впереди маячили наши конные дозоры. Прошли еще полверсты. Завиднелись впереди высокие поля кукурузы, а прямо передо мной, обнесенный плетнем, одинокий хуторок с высоко глядящим в небо колодезным журавлем. "Оазис!" – возможность наполнить опустевший баклажки водой, а сердца – умиротворением и примирением с необъяснимым поведением нового командира. Тотчас изменилось упадочное настроение. Поручик Недошивин, излив из себя всю накопившуюся желчь, первый впал в обычное веселое настроение.
Однако, не доходя шагов 400 до благословенного "оазиса", внимание всех было привлечено скакавшими к нам дозорными. Наше предположение об обнаружении противника получило полное подтверждение еще до прибытия верховых, в виде высоко взметнувшегося к небу фонтана земли и раскатившегося по степи треска разорвавшейся гранаты. Близко, но потерь нет. Новый треск – новый фонтан земли, потом все чаще и чаще. Ага! Начинается!
До хутора еще сотня шагов. По цепи передается приказание: "держать дистанцию, не разрываться!"
Наше звено – Недошивин, я, Пелевин, Крылов и Тихомиров подходит к плетню. Четверо лезут через него, и только я один пользуюсь благосклонным вниманием судьбы, расположившей на пути моего следования широкие ворота, сквозь которые я и проникаю во двор, без всяких предварительных гимнастических упражнений. Не ограничившись этой первой любезностью, судьба воздвигает передо мной и вожделенный колодезь. Эта очевидная протекция не ускользает от завистливых взоров моих, менее фаворизированных, соратников, решивших тотчас же пристроиться "на халтаря" к триумфальной колеснице Фортуны, на которой было отведено место только моей симпатичной особе. О чем засвидетельствовала четверка полетевших в меня пустых баклажек, подобных древним римским сенаторам: "кум тацент кламунт" (молча вопиют). Ничего удивительного! Кто хочешь возопит, ежели в нем ну никакого содержания!
Наполнение у колодца пяти баклажек, мало того, что потребовало времени, но и допустило опасный прорыв в цепи, чем тотчас же и воспользовался противник, ознаменовавший свое недалекое присутствие градом ружейных выстрелов, но все же, несмотря на мое отсутствие в строю, атаковать не решившийся.
Перекинув через плечо все пять наполненных баклажек, я уже собирался заполнить собою опасную брешь в цепи, как вдруг, со дна рога расточительной Фортуны, мне на голову высыпалась пожилая казачка. Собственно говоря, она не то что б "высыпалась мне на голову" – что конечно только аллегория – а вышла на крыльцо, находившегося за моей спиной, дома. Ее оклик заставил меня обернуться. Покинувшая меня на мгновение, врожденная храбрость снова мужественно вернулась на место, при виде добродушного лика хозяйки, своим бабьим обликом гарантировавшую мне полную и несомненную безопасность.
Как рвущийся в бой хороший конь: "Где красные?" – спросил я ее таким тоном, что в ней не могло зародиться и тени сомнения в моей доблести и отменном мужестве.
Очевидно не знакомая с тонкостями литературного языка, казачка ответила в прошлом времени: "Да туточки булы, да с час как поутекалы."
– Нат-ко! – протянула она мне большой глиняный горлач, обвязанный под выступом горла веревкой, создававшей ручку. "Карамба! Сакрамента! Масгорка и Разас!" Большой горлач был полон великолепной, густой, холодной сметаной!
Здесь я должен сделать маленькое отступление и пояснить читателю смысл восклицания, вырвавшегося из моей восторженной груди. Оно было изобретено еще в 5-м классе гимназии и, с тех пор, служило мне для выражения всевозможных чувств: восторга, изумления, протеста, недоумения и пр. Выгоды этого восклицания заключались в том, что в нем не было ничего обидного, или воспрещаемого правилами хорошего тона: ни брани, ни божбы, ни чертыханья. И когда я однажды, получивши единицу за латинское экстемпорале, горестно воспроизвел свое восклицание а, посчитавший его за оскорбление, преподаватель пожаловался директору, то мне не стоило никакого труда объяснить разбушевавшемуся начальству, что "Карамба, Сакрамента, Масгорка и Разас" суть только произведения Майн-Рида и ничего обидного в них нет.
Так и в данном случае, при получении горлача со сметаной, названием этих четырех произведений я вполне выразил всю богатую гамму овладевших мною чувств.
Но догнать ушедшую на сотню – а то и две – шагов роту оказалось не так-то просто, из за непредвиденной для боев и походов нагрузки и необходимости перелезть через плетень, доходивший до груди. Винтовка, патронташ, баклажки, вещевой мешок оказались за плетнем раньше меня, а я, с моим драгоценным горлачом, тщетно исхищрялся присоединиться к ним. Выручила меня все та же казачка, подержавшая горлач, пока я преодолевал препятствие. Вновь нагрузившись по ту сторону плетня, имея за спиной винтовку, а в руке горлач, я бодро зашагал к кукурузе, куда уже скрылась наша цепь. Снаряды "красных" орудий проносились над головой и рвались далеко позади, в давно пройденном ротой пространстве. Где-то очень высоко жужжали одиночные пули. С нашей стороны – полное молчание.
Догнал я своих в густой кукурузе, где они расположились в ожидании выяснения обстановки и приказа двигаться вперед. Баклажки были сразу же разобраны и тотчас же наполовину опустошены, но божественный горлач не покидал моего общества и бдительного наблюдения. Сравнительно долгое лежание без дела быстро нарушило основной порядок цепи, сделав ее больше похожей на сбившиеся в группочки воробьиные стайки. Сбилась вокруг меня и наша пятерка, сперва скромно косившаяся на мой горлач, но вскоре заинтересовавшаяся его содержимым. Сделанное сенсационное открытие тайны глиняного сосуда породило естественное желание воспользоваться всеми благами земного существования. В первую очередь, горлач перешел в руки Недошивина – хоть и маленькое, а все же начальство!
Неожиданное приказание: "вперед!" – и горлач исчез в зарослях кукурузы, вместе с Недошивиным. Угрожающие, умоляющие и горестные крики понеслись вслед ему и сметане. Но, прошедши кукурузу, мы снова увидели друг друга. К великому счастью четверых обездоленных, защиту наших общих интересов взяла на себя Недошивинская совесть, укусившая его прямо в сердце и потребовавшая передачи горлача Пелевину. От него он перешел ко мне, от меня – Крылову, от Крылова – к Тихомирову откуда снова предпринял путешествие к левому флангу. Трижды проделал горлач свою дорогу вдоль звена и все еще оставался наполовину полным.
А тем временем, кончились кукурузные дебри. Мы идем по ровному пологому скату. Шагах в восьмистах впереди, цепи "красных", то ли стоят на месте, то ли отходят. Огонь, открытый по нам – вялый, лишенный силы и прицельности. Теперь уже ясно, что "товарищи" отходят, но странно медленно, не торопясь. Мои дальнейшие наблюдения прерываются вернувшимся ко мне горлачом. Освежив горло и ублажив "мамону", передаю горлач Пелевину, не упустив заметить, что сметана убавилась в значительно меньшем количестве, чем за время первых путешествий "туды-сюды и обратно".
Вот уже более пятисот шагов, как мы вышли из кукурузу и идем по открытому месту. Расстояние между нами и противником сократилось и не превышает 800-ста шагов, но "красные" цепи все еще не теряют порядка. Тревожно и подозрительно! Мой обеспокоенный взгляд обращается в сторону Недошивина. Тот идет ускоренным шагом, с винтовкой на ремне, изредка останавливаясь и отхлебывая глоток сметаны. Стало быть, мои опасения преждевременны. Не проявляет беспокойства и Пелевин, вступающий в обладание горлачом и тоже принужденный останавливаться для поглощения своей порции. Судя по углу подъема запрокинутого над его головой горлача, сметаны остается еще достаточно, до перпендикулярного положения еще далеко.
Я уже приготовился принять вот-вот готовый перейти ко мне горлач, как вдруг, вместо Пелевина, перед моими глазами блеснуло большое белое солнце, за которым исчезла фигура соратника. В следующую секунду, я увидел его поднимающегося с земли. Вместо лица, на котором не было ни глаз, ни носа, ни рта, расплылось только одно белое пятно. Все было залеплено густой сметаной!
Однако, охвативший меня сперва смех сразу оборвался, как только я увидел как начала быстро краснеть эта белая сметанная маска, уже через минуту обратившаяся в сплошное кровавое месиво. Пуля, разбив горшок, вероятно, соскользнула и попала в шею. Сама по себе рана не была тяжелой, но обильное кровоизлияние грозила лишить его силы двигаться. Стараясь зажать рукой рану, Пелевин быстро побежал назад к кукурузе.
Мне не удалось проследить за ним, так как-то, что я смутно предчувствовал, разразилось. Сильный огонь обрушился на нас и, почти одновременно, за спиной отходивших "красных" цепей, поднялись и перешли в контратаку прекрасно скрывавшиеся в высохшем русле ручья или речушки – многочисленные "красные" резервы.
Вправо и влево, насколько охватывает глаз, видно как погнулись наши цепи и начали отходить. Дистанция между нами и противником равна расстоянию между нами и кукурузой, где мы, несомненно, примем их контратаку. "Красные" полчища валят густой массой, стреляя на ходу. Огонь сильный, но малодейственный. Недошивин приказывает, медленно отходя, вести прицельный огонь. От этой системы приходится скоро отказаться, так как расстояние между нами и "красными" сокращается гораздо скорее, чем между нами и кукурузой. В некоторых местах наши цепи уже входят в нее, а нам остается еще шагов 300/400. Надо поторапливаться! Но хуже всего то, что покровительствующая мне до сих пор Фортуна вдруг перестала интересоваться моей особой. Расстреляв находившуюся в винтовке обойму, мне пришлось убедиться, что мой патронташ, хранивший 60 патронов, остался висеть на плетне хутора. Карамба! Сакрамента! Масгорка и Разас!
Мой вопль о доставке мне патронов Крыловым остался без ответа. С другого фланга я услыхал голос Недошивина и невольно повернулся к нему. Недошивин лежал на земле. Он сделал попытку подняться и снова рухнул. Я бросился к нему. Он лежал неподвижно. Будто из лейки вокруг него была разбрызгана кровь, ею были залиты и его шинель, и его лицо. Крылов и Тихомиров уже бежали, не дожидаясь моего зова.
– Юра, голубчик, не оставляй!", услышал я приглушенный голос и тут только заметил, что из угла его губ сочилась, вытекавшая изо рта, кровавая пена. Как будто были тоже оторваны пальцы на его руке.
– Ведите Костю, – приказал я Крылову и Тихомирову, – а я буду прикрывать ваш отход.
Не знаю, кто думает за нас в таких тяжелых моментах, но думает он не всегда хорошо. Во всяком случае, тот, кто думал за меня остротой мысли не отличался. Дав им отплестись шагов на пятьдесят, я вдруг вспомнил, что у меня нет ни одного патрона! Исковерканная пулевым попаданием, брошенная винтовка Недошивина валялась возле меня. Я схватил ее и открыл затвор. В магазине оказалась целая нетронутая обойма.
"Красные" заметили отвод раненого и трое их кавалеристов устремились к нам, вероятно считая нас легкой добычей. До сих пор я лежал на земле, но теперь пришлось встать навстречу коннику. Он уже был не более 70-ти шагов от меня и не уменьшал хода. Я приложился. Он осадил коня и начал что-то кричать: должно быть предлагал сдаться. Я сделал ему знак, предлагая приблизиться. Он двинулся ко мне, но с осторожностью. Я снова приложился, а он отскочил назад. Между тем, подскакали двое других "красных". Во избежание иметь дело с тремя, я выпустил одну пулю. Теперь их осталось только двое.
И тут тот, кто думал в то время за меня, начал думать безукоризненно. Он вдруг сообразил, что эти конники, болтающиеся между нами и "красными" цепями, мешают скосить нас огнем, а потому являются не врагами, а защитниками. Когда, обернувшись, я увидел, что волокущие Недошивина Крылов и Тихомиров находятся приблизительно на равном расстоянии между мной и спасительной кукурузой, то тоже принялся медленно отходить, по временам вскидывая винтовку и целясь в не отстававших "товарищей". Один из них произвел, было, попытку заскакать со стороны, но был встречен огнем нашей цепи из кукурузных зарослей. Лошадь его была убита, а сам он, на четвереньках, пополз назад и, чуточку отойдя, вдруг вскочил на ноги и опрометью бросился к своим цепям. Последний конный тоже повернул коня и поскакал к своим. За неимением коня, я тотчас же повернул пятки к противнику и, с неподозреваемой мною до того прытью, понесся к кукурузе, куда уже втаскивали Недошивина. Ружейный огонь "красных" бил словно молотками по голове, пока я, наконец, бомбой влетел в кукурузу, где и распластался на земле, забыв как зовут моих папу и маму!
А через час, мы опрокинули "красных" и взяли Екатериновку.
С тяжелым чувством пришел я на перевязочный пункт, и все как-то не верилось в возможность смерти Недошивина. "Вывернется", утешал я сам себя. Но Костя не вывернулся. Пуля попала ему в спину, пробила желудок, расщепила ложе винтовки и оторвала четыре пальца. Я застал его в предсмертной агонии. Он не узнал меня.
Как хорошо, как весело начался этот день и как трагично окончился!
Жужжат, кружатся веретена. Ткут три древние старухи, три седовласые Парки, нити человеческой жизни. Ровно тянется нитка, и нет ей причины оборваться. Но вот ударила по ней костистой рукой
старуха-Парка и оборвала! А вон у той нить на последнем волоске держится, вот-вот оборвется. Добавит старуха волокна и ткет дальше.
В воле Парки оборвать нить человеческой жизни, но не в ее воле оборвать нить человеческой памяти. Убит Костя Недошивин, но он остался живым в моей памяти. Много, много подобно ему ушло из жизни, но остаются живыми и умрут только вместе со мною.
Болгарская эпопея
Коммунистическое восстание в Болгарии застало меня в Белградчике, где, в то время, стоял Марковский полк. От генерала М.Н. Пешня – тогдашнего командира полка – я получил приказание явиться в распоряжение начальника 5-го пограничного участка, болгарского капитана Монева. В моем подчинении находились два тяжелых пулемета "Максима" и два легких "Льюиса", при двадцати человеках команды – всё Марковцы.
После моего представления капитану Моневу и полученных от него инструкций, привел я свою команду в болгарское офицерское собрание, где нам было выдано болгарское обмундирование и походный рацион. Винтовки у нас были свои. Ими не были вооружены одни только N 1 и 2 при тяжелых пулеметах и N 1 при легких.
В тот же день выступили мы из Белградчика. Весь отряд капитана Монева состоял – не считая нас – из 70/80-ти человек. Отряд этот, по правде говоря, возбудил во мне, кроме сомнения, и некоторое опасение. Причиной моего опасения явилась речь капитана Монева перед строем готовым к выступлению:
"С нами", – сказал он, "идут русские пулеметчики". (Зачем же нас переодели?- подумалось мне). "Все они много раз переранены, но это ничего не значит!" (Сперва я ошибочно перевел, что мы ничего не стоим). "Но как они стреляют!", продолжал Монев. (Явная фантазия, ибо до сих пор мы скрывали наличие у нас пулеметов и никогда стрельбы не производили). "И всякий из вас, кто подумает перебежать, сразу будет убит несколькими пулями!". Ободренный этим предупреждением, отряд двинулся в путь.
Нашей ближайшей задачей являлось взятие села Чипоровцы, по сведениям капитана Монева, занятого коммунистами. С самого начала движения нашей походной колонны, построение её показалось мне весьма странным: мои пулеметы оказались в середине колонны, так что впереди и позади шествовали болгарские войны, не внушавшие мне доверия. На первом же привале, я указал Моневу на опасность такого построения. Монев не сразу согласился со мной, указывая, что дальнейший путь будет проходить по шоссе, проложенному вдоль подножья скалистой горы, заросшей кустами и лесом, откуда всегда можно ожидать нападения, потому что освещение местности с этой стороны невозможно и он боится, что пулеметы могут быть отрезаны от остального отряда. Всё же, мне удалось настоять на своем, и перевести мою команду в хвост колонны.
Описанный капитаном Моневым, наш дальнейший путь действительно оказался крайне опасным: слева – громада горы, под которой мы проходили; справа – совершенно открытая плоская местность; впереди – вьющаяся под скалами дорога. Мои четыре подводы пришлось развести на расстояние пятидесяти шагов друг от друга и усадить моих двух "Льюистов" на последние из них. Подводы с тяжелыми пулеметами забросали сверху ветками и прикрыли каким-то скарбом, придав им вид "обозников".
Целых два перехода прошли в таком построении и при большом нервном напряжении. Наконец дорога вильнула в сторону и побежала по открытой местности. Прискакавший всадник, от шедшего впереди дозора из трех коней, привез донесение, что впереди замечены конные части противника. На вопрос капитана Монева о силе коммунистической кавалерии, прозвучал точный ответ: "само два!" В дальнейшем выяснилось, что от боя "неприятельская конница" уклонилась и ускакала на село Чипоровцы.
"Чипоровцы мы, вероятно, займем без боя", сказал мне Монев. "Это село зажиточное и, за исключением нескольких человек, вполне лояльное. Ни кмет (сельский староста), ни жители, не согласятся оказать нам сопротивление и рисковать репрессиями.
Так оно и вышло. В Чипоровцы мы вступили, хоть и с предосторожностями, но без выстрела. Встретило нас несколько стариков, державших в руках, покрытых вышитыми полотенцами, блюда с насыпанным на них зерном и стеклянными "урнами" с холодной водой. Вероятно, этот обычай соответствует нашему "хлебу-соли". На отведенных нам квартирах приняли нас с распростертыми объятиями и тотчас принялись "черпить"(угощать) более чем неумеренно но поглядывали со странным любопытством.
Время приближалось к вечеру. Длинные тени потянулись от домов, кустов и деревьев. Огромное солнце взобралось на самую верхушку горы и начало медленно погружаться в окаймлявший ее лес, когда я отправился к капитану Моневу за получением инструкций и выяснением обстановки.
Начальник отряда расположился в доме кмета. Когда я вошел, то застал его сидящим на полу покрытым циновками, за низеньким круглым столом, в обществе трех офицеров его отряда и трех или четырех стариков. Мне тотчас же отвели место: "Заповедуйте!" (Милости просим!). Тут же за столом (масичка) мне было сказано, что весь следующий день отряд проведет в Чипоровцах, а через день, с раннего утра, выступит на деревню Чупрене, где, по всей вероятности, нам предстоит бой. Мои пулеметы должны быть перегружены на вьюки, которые я получу завтра днем. На мой вопрос: кто несет охрану села, один из стариков успокоительно ответил "момче" (парнишки подростки). Общая схема этой своеобразной охраны заключалась в том, что на всех трех дорогах ведших в Чипоровцы, в полуверсте от него, должны быть поставлены "заставы" из мальчишек, которым были выданы свистки того типа, что обычно продаются на сельских ярмарках. Численность таких застав зависела от количества "любителей" принять участие в "охранении" отряда. Любителей этих оказалось множество – вероятно, все сельские подростки, а свистков менее десятка.
Задержался в моей памяти и спор, возникший между капитаном Моневым и кметом. Монев собирался спалить несколько домов, принадлежавших заведомым коммунистам, бежавшим в Чупрене перед нашим приходом, а кмет протестовал, указывая на опасность общего пожара села, так как никаких средств для тушения под рукой не имелось – ручная помпа "строшилась (сломалась), а кишка продырявилась. Монев, убедившись силой "столь явственных причин", от своего нелепого намерения отказался, но потребовал ареста бежавших, как только они появятся, и задержания их до его возвращения. На этом и помирились. Поразило меня и то, что кмет был прекрасно осведомлен о том, что пулеметная команда состоит из русских. Наш маскарад становился все более необъяснимым.
При выходе от кмета, увидел я целую толпу мальчишек (но были и девчушки), жаждавших идти в заставу. Видимо, им это представлялось заманчивой игрой. Вернувшись в свою команду, я тотчас же убедился, что и для наших хозяев, наша национальность не являлась секретом: двое из офицеров моей команды, как, оказалось, работали в этом селе, и как раз у того болгарина в чьем доме нас теперь расквартировали, и были, конечно, узнаны. Впрочем, это обстоятельство меня уже нисколько не интересовало, но вопрос о нашем охранении сельскими подростками рассматривался мною как нечто абсолютно не допустимое. Не будучи в состоянии согласиться с подобного рода "охранением", после короткого "военного совета", я снова отправился к начальнику отряда и, отвергнув все его заверения, получил согласие на выставление заставы от моей команды, с ироническим добавлением: "если вы от страха спать не можете, то делайте, как хотите!" Эту ночь, проведенную мною в заставе, на дороге ведущей на Чупрене, я отношу к самым комическим воспоминаниям моей жизни.
Едва трое офицеров и я (с одним легким пулеметом) вышли из дома, как нас сразу окружила толпа мальчишек и девчонок, пожелавших идти вместе с нами. Избавиться от них не было никакой возможности. Так мы и двинулись всей многоголовой кучей. В сильно сгустившихся сумерках, отошли с полверсты от села и остановились у густых кустов, где и раскинули наш "табор". Именно "табор", так как в продолжение всего пути, как и теперь на месте, щебет детских голосов не прекращался, сопровождаясь иногда и воплями.
Как только уселись мы на землю, подскочил ко мне весьма предприимчивый мальчонка, лет десяти, уведомивший меня о своем намерении пойти вперед и "доглядеть каково правят коммунистите". На мое категорическое запрещение этот добровольный разведчик не обратил никакого внимания, нырнул в темноту и исчез. Немного времени спустя, предстала передо мною 8-летняя девица, залитая горькими слезами и усиленно хлюпавшая носом. Из её, прерываемого рыданиями, объяснения я понял, что причиной такого безысходного горя является то обстоятельство, что она лишена какого-либо вооружения, а потому чувствует себя обойденной, ввиду невозможности принять участие в общих "боевых действиях". Выходом из создавшегося положения она считала конфискацию свистка у её брата и передачу его ей. Однако исполнение её требования грозило большим и шумным скандалом, а потому я предложил ей занять ответственную и почетную должность сестры Милосердия нашего становища. Сперва она очень заинтересовалась своей новой должностью, но вскоре в ней разочаровалась, главным образом потому, что я не имел возможности снабдить ее каким-либо внешним знаком отличия, свидетельствовавшим о её высоком назначении, и снова потребовала свисток.
По существу, фабрикация свистка не представляет из себя никакой технической трудности, в чем я убедился во время моего пребывания под Ригой, где мы фабриковали их сотнями. Выломанная из винтовочного патрона пуля и высыпанный из него порох оставляют медную гильзу прекрасной внешней оболочкой. Маленькое окошечко, вырезанное на высоте полутора сантиметра внизу гильзы и располовиненное верхнее отверстие (где раньше сидела пуля) какой-либо перегородкой заканчивают производство свистка. А если еще опустить туда горошинку, буковый орешек или кусочек жёлудя, то получается звук, напоминающий соловьиную трель: раскатистый и даже с прищелкиваньем.
Изделием такого свистка я и занялся. Таинственность моих действий и данная мною гарантия, что изо всего этого получится свисток, возбудили общее любопытство "момчей" и "момичей". Рёв, отказавшейся быть сестрой милосердия, девицы прекратился и заменился сосредоточенным сопением собравшейся вокруг меня детворы. Вынутая из патрона пуля чуть было не послужила причиной кулачных боев, а высыпанный из гильзы порох подлил маслица на огонь всеобщих вожделений. Одним словом, мое намерение восстановить тишину закончилось полным провалом: вместо слёзных воплей одной девицы послышались многие голоса претендентов на пулю и порох. Но настоящая гроза разразилась, как только я закончил свисток и передал его обиженной девице. Первым ударом грома был оглушительный свист, исторгнутый ею из этого инструмента! Затем посыпался град просьб на порох, пули и свистки. Так погибла целая обойма боевых патронов! Относительная тишина восстановилась только после моей угрозы отобрать все сфабрикованные свистки и разогнать "заставу".
Во время "производства вооружения", предстал передо мною "добровольный разведчик", сообщивший что некий "бай Божо" стоит с пушкой" (ружье!) у моста через (название реки не помню), а "другие пият винце". Но его сообщение меня мало интересовало, так как я уже прекрасно понял, что задача моей "заставы" заключается не в охране отряда, а в стремлении избежать ложную тревогу, вызванную непомерным усердием охранителей.
Не могу сделать никакого сравнения с чем бы то ни было, нашего утреннего возвращения в Чипоровцы. Ни одна веселая свадьба каких-нибудь "команчей" не могла бы конкурировать с тем восторженным настроением, которое охватило мое "воинство, получившее полную возможность яростно испробовать всю силу своего звонкого "вооружения".
Через полчаса я был вызван к Моневу. За ночь обстановка изменилась, а следовательно отпали и вчерашние инструкции. Новая задача заключалась в движении на то же Чупрене, но не по горным тропинкам, а по дороге. Отменялась и дневка. Пулеметы должны были оставаться на подводах, а вьючные лошади следовать за нами. Через час мы должны были выступить по той дороге, где ночью стоял мой табор. Это распоряжение подействовало на меня чрезвычайно успокоительно, так как, говоря по правде, я, как и остальные пулеметчики, не имел ни малейшего представления о навьючивании пулеметов.
Отряд выступил. Версты через полторы, подошли мы к реке, где ночью (по донесению добровольного разведчика) стоял "бай Божо с пушкой". Река, перед которой нам пришлось остановиться, не могла быть названа рекой: это был полноводный горный поток, стесненный отвесными каменными стенами своего русла и мчащийся с невероятной скоростью. Ни брызг, ни пены! Прозрачными, водяными, сине-зелеными ступенями неслись волны потока, и только небольшие пузыри появлялись на их поверхности. Но мост отсутствовал! Я не заметил даже признаков его.
– Строшили, – сказал Монев, – ште направим.
Вправо, рядом с дорогой, стояла мельница. Возле неё были сложены бревна, которые и послужили нам для постройки моста. Все глубокое русло потока в ширину не превышало трех саженей. Из штанги брёвен, один из болгарских унтеров извлёк самое длинное бревно. Его поставили "на попа" и опустили на противоположный берег. За первым последовали второе и третье. Перекинутые три бревна сколотили досками, оторванными от здания мельницы. Не более чем через час соорудили мост, способный выдержать даже 93тонный современный танк, по которому отряд перешел на другую сторону.
Однако, ширина нашего "моста" дозволяла переезд через него наших пулеметных подвод только при условии движения по абсолютно прямой линии. Мою просьбу о подложении с двух сторон хотя бы по одному бревну, капитан Монев категорически отклонил, сказав мне: "Глядайте"! Наши возницы, отпустив вожжи, смело проехали "мост", доверившись лошадям, не свильнувшим в сторону ни на шаг. Честно говоря, я был поражен: четверть вершка в сторону – и конец!
Перед нами снова грунтовая дорога. К полудню дошли мы до какого-то шоссе и двинулись по нему. Не более чем через час вошли в какое-то селение. Из одного дома вышел старый болгарин. Монев спросил его "где коммунисты"?
– Они здесь, за рекой, – ответил старик, – но берегитесь, у них есть пулеметы.
– А ты видел их пулеметы? – спросил Монев.
– Нет, я не видел, но они говорили, что есть.
– Врут,- сказал Монев, – пулемет не спрячешь в карман!
Мы двинулись вперед. Минут через пять, шоссе круто вильнуло влево, и голова колонны оказалась перед мостом. Едва она взошла на мост, её встретил пулеметный огонь. Прицел "красного" пулемета был замечательно правилен, но позиция самого пулемета была выбрана неискусно, так как каменные борта моста исключали возможность продольного огня, а пулемет находился как раз там, откуда такой огонь был невозможен.
В мгновение ока, весь отряд оказался в реке. В широком русле немноговодной речки, за каждым валуном, сидело по болгарину, низко склонившему голову но, неизвестно почему, поднявшему зад. Стоя рядом с Моневым, я не мог удержаться от смеха, когда он подал команду: "Дупами на десно равнись!" (Жопами направо – равняйся!)
– Вы можете определить, где стоит их пулемет? – спросил меня Монев.
– Определить линию, на которой стоит пулемет – просто! Но выяснить на этой линии точку его нахождения – гораздо сложнее. Нужно, что бы он снова "заговорил".
Монев передал мне свой великолепный 18-кратный "Цейс-Икон". Будто на ладони предстала передо мной вся впереди лежащая местность. Но где замолкший, за отсутствием целей, пулемет? Я не нашел его.
Мои пулеметчики, тем временем, сгрузили наши два тяжелых пулемета и подкатили их к мосту. Первым номером, на первом "Максимке", был у меня унтер-офицер Ориенбаумской стрелковой школы (его фамилию, к стыду моему, я забыл). Как только он подошел ко мне, я передал ему бинокль. Он довольно долго рассматривал в него разлегшуюся перед ним панораму.
-Так не найдешь,- сказал он мне, – надо, чтоб он начал стрелять.
Его слова я перевел капитану Моневу.
– Ништо! Направим! – ответил он и предложил мне сделать "расходку" (прогулку), как раз по другую сторону моста, куда ударили первые пули и, не дожидаясь моего ответа, направился к этому опасному месту.
Я икнул и последовал за ним. Наша провокация увенчалась полным успехом: "красный" пулемет застрочил. Я думаю, что спасло нас только чудо. Не искушая более Провидение, мы оба бросились к противоположной стенке моста.
– Есть! – донесся до меня крик моего унтера. – Намерих, – перевел я Моневу. (Найден!)
Минут десять ушло на выбор удобной позиции для обстрела вражеского пулемета и установки на ней нашего. Но вот мой пулеметчик открыл огонь. Короткая очередь и, сразу за ней, пол-ленты. Ответа не последовало; красный пулемет молчал. Немного пообождали: ни ответа, ни привета! "Разбежались", предположил мой унтер, "а пулемет, кажись, стоит!" И, посмотрев в бинокль, протянутый ему Моневым, добавил: "А только он сбит!" Тотчас же я получил согласие капитана Монева проверить наше предположение и, взяв пять человек и один легкий пулемет, двинулся вперед, перебравшись через русло реки.
Пока мы продвигались огородами, заслоненными живой изгородью, ни один выстрел не послышался со стороны противника, но, как только мы вышли на открытую местность, то, с лежащей впереди – в версте – горы, прозвучало полтора десятка выстрелов. Свиста пуль я не слышал: или недолёт, или они были предназначены не для нас. Шли мы слегка левее линии огня нашего тяжелого пулемета, остававшегося на своей позиции, в любую минуту готового поддержать нас в случае опасности. Без всякого сопротивления достигли мы позиции "красного" пулемета. И вот что я увидел. Труп пулеметчика лежал на станке пулемета, лицом вниз, двое тяжело раненных валялись неподалеку. Один из них, видимо, собирался доползти до камня, находившегося немного позади, но, обессилив, лежал неподвижно. Я уже собирался послать донесение капитану Моневу, когда вдруг увидел, что он скачет ко мне.
Вскорости он прискакал и, первым делом, повернул убитого лицом вверх. "Дончев!", ткнув сапогом в труп, торжественно объявил Монев. Но кем был этот Дончев, в то время мне не было известно. Затем я получил приказание оттащить взятый нами пулемет на дорогу. Пулемет, который тащили теперь мои пулеметчики, был такой же пулемет "Максима" как и наши, поставленный на станок Соколовского. Прикатили его на дорогу и начали рассматривать. В двух местах кожух его был пробит нашими пулями; след пули имелся и на "щеке". Но что нас особенно заинтересовало – это надпись на казенной части: "Императорский Тульский ружейный завод". Слово "императорский" было перечеркнуто глубоко врезанной линией. Но, кроме взятого нами пулемета, на месте оставалось еще и несколько ящиков с пулеметными лентами, за которыми Монев приказал мне прислать солдат его отряда. Запомнилась мне и брошенная там великолепная новенькая винтовка "Манлихера", на которую очень зарились мои глаза.
Отряд Монева уже двигался по дороге, в построении походной колонны. Мои подводы и вьючные лошади следовали сзади. Когда колонна подошла к нам, я передал болгарскому офицеру приказание Монева, все еще остававшегося на уничтоженной нами позиции "красного" пулемета, о присылке нескольких человек за пулеметными лентами. Едва назначенные солдаты отделились от колонны и направились к указанному им месту, как оттуда раздались два приглушенных выстрела. Охватившее, было, нас беспокойство быстро рассеялось, так как Монев, не торопясь, отдал какое-то распоряжение и прискакал к остановившейся колонне.
В моей команде находился доктор Иванов (впоследствии погибший на Пернике) и я обратился к Моневу с предложением послать доктора для перевязки двух раненных.
"Немат нужда" (не нуждаются), ответил Монев и отъехал в голову колонны. Я понял назначение двух, услышанных нами, выстрелов. Должен сказать, что если до сих пор капитан Монев пользовался моей безусловной симпатией, вызванной его храбростью и своеобразным остроумием, то теперь эта симпатия поколебалась. В дальнейшем она и вовсе испарилась. То, что произошло в тот же день, уничтожило ее окончательно.
Без всякого сопротивления, часам к 3-м, мы вступили в Чупрене. Встретили нас, опять-таки, три старика, с традиционными блюдами зерна и воды. Но отношение Монева к этим старикам было совершенно иное, чем в Чипоровцах. Ударом ноги он выбил из рук трех "делегатов" блюда и, отвесив три тяжелые пощечины, завопил: "Стига дипломация!" (достаточно дипломатии!). Дальнейшее его распоряжение было: в течение часа снести все имеющееся оружие, под страхом расстрела всех жителей деревни.
Неожиданно к Моневу подошел какой-то другой болгарский капитан, который не был в его отряде. За этим капитаном следовало человек шесть солдат, одетых в форму пограничников. Как мне стало известно потом, это были чины пограничного поста, взятые в плен коммунистами и теперь освобожденные нами. Монев и неизвестный мне капитан удалились в ближайший дом, а весь отряд продолжал стоять на улице. Теперь мое внимание привлек маленький старичок, имевший на животе барабан и похожий на ошпаренного петуха. Побарабанив, старичок вопил истошным голосом: "всички да дават орыжие! Всички да донесут него до една, до кмета". Этот вопль слышался с полчаса.
Начали сносить оружие но, почему-то, только бабы и девчонки. В возрастающей куче оружия, я заметил старый, заржавленный австрийский штык, кремнёвый пистолет без курка, имеющий большую музейную ценность, турецкий ятаган времен взятия Азова и все в таком духе. Имелись в куче топоры и вилы. Было два или три кистеня времен покорения Сибири. Всякого хлама было – хоть отбавляй, но оружия я не видел.
Вышедший для конфискации оружия, Монев – в сопровождении неизвестного мне капитана – ироническим взглядом осмотрел "арсенал". Новая тяжелая оплеуха звякнула по лицу кмета. Тот стоял неподвижно, и кровь текла из его рта и носа.
– Если, через десять минут, ты не доставишь сюда то оружие, что привез сюда Дончев, то я спалю все село и расстреляю всех жителей!
Избитый кмет молчал.
– Где Дончев?
– Не веждам, – ответил кмет, – избегал.
– Лыжешь! крикнул Монев.
Вся эта дикая сцена произвела на меня очень тяжелое впечатление. Но, затем, я почти оправдал Монева. Посланные им солдаты его отряда обыскать дом Дончева, начали приволакивать длинные деревянные ящики, но было несколько и небольших, хранивших цинки с боевыми патронами, Это был уже не сданный нам арсенал! Один из длинных ящиков оказался открытым. В нем, в густом зеленом жире, были уложены винтовки "Манлихера", но три винтовки, находившиеся сверху, отсутствовали.
Во все время процедуры принесения ящиков, кмет стоял бледный, как полотно. Но Монев не смотрел на него.
– Ште запалите кышта! – приказал Монев. (сожгите дом).
Через несколько минут, дом Дончева запылал. Освобожденный нами болгарский капитан, стоявший рядом с Моневым, видимо что-то возражал ему, не одобряя его действий. Монев даже не повернул головы к нему, а снова набросился на кмета.
– Дека картечница? (где пулемет?)
– Не веждам, – развел руками кмет.
– Не веждашь? – заорал Монев, – аз взямах! (я взял), глядай! – и приказал подкатить взятый нами пулемет. Опять несколько ударов по лицу кмета. Тот упал. "А где твои люди?", все более и более неистовствал Монев, "почему я вижу только баб? Где? – и он начал выкрикивать чьи-то имена – "где они?"
Я не уверен, но мне, стоявшему в некотором отдалении, казалось, что кмет лежал в глубоком обмороке но, может быть, и притворялся. Монев подозвал к себе облезлого старика барабанщика и приказал ему объявить, что все село будет сожжено, если все попрятавшиеся мужчины не явятся на площадь, перед домом кмета. Невозможно описать тот женский вопль и плач детей, которыми огласилось село. Но… но через несколько минут начали появляться бабы в сопровождении мужчин. Монев бросал на пришедших короткий взгляд, смотрел в вынутый им из кармана лист бумаги и жестом руки приказывал пришедшим становиться рядом. Так собралось более 60-ти человек. Очевидно, это было все, не бежавшее, мужское население.
Неожиданно Монев повернулся и подошел ко мне.
– Поставьте пулемет и расстреляйте их всех! – приказал он.
Обычно спокойный, я редко испытывал то состояние, которое определяется выражением "кровь бросилась в голову". Но здесь, она мне бросилась.
– Я – солдат, а не палач! Я имею точную инструкцию от моего командира полка – не принимать участия в расправах, а только оказать вам полную поддержку в бою!
– Здесь нет вашего командира, здесь командую я! – заорал Монев.
Хорошо, что я не вспылил и не ответил ему в том же духе, а взял себя в руки.
– Всякое ваше боевое приказание я исполню, но нарушить инструкцию моего командира я не могу! – эту фразу я произнес совершенно спокойно (как мне казалось и как я старался).
Готовую разразиться грозу рассеял неизвестный, освобожденный нами капитан, что-то сказавший шепотом Моневу.
– Хорошо, тогда я справлюсь и без Вас, – сбавив тон, сказал Монев.
Опять недоразумение: эту фразу я понял как "вы мне больше не нужны", а потому обратился к нему с вопросом: "кому я должен сдать лошадей и подводы, вернувшись в Белградчик?"
– Почему Вы собираетесь вернуться в Белградчик? – испугался Монев.
– Да ведь Вы мне сами сказали, что я Вам больше не нужен! – изумился его испугу и я.
– Я Вам никогда этого не говорил! Вы мне еще очень нужны, чтобы перехватить ту банду, которая ограбила Государственный Банк в Фердинанде!
Это сообщение было для меня новостью. Однако неправильность моего перевода сообразили оба болгарских капитана. "Я имел в виду только их", ткнул пальцем в стоявший ряд, ожидавших решения их участи, жителей Чупрене, Монев.
Во время этой, происходившей между нами, сцены, в Чупрене вошел какой-то другой отряд, численно немного меньше нашего и имевший на вьюке один пулемет. Как потом выяснилось, этот отряд шел той дорогой, которая, по первоначальному плану, предназначалась нам. Монев тотчас же пошел к нему навстречу, оставив нас с неизвестным нам капитаном. Капитан оказался чрезвычайно распорядительным и даже услужливым. Он немедленно указал нам три дома для нашего расквартирования, сам отвел нас туда и сказал мне, что он остается здесь в качестве коменданта и что, по всем жизненным вопросам, я могу обращаться непосредственно к нему.
В доме, где мне пришлось остановиться, имелась только одна девушка, Цветанка, заплаканная и растерянная. Вскоре появилась и какая-то старуха, очевидно бабушка Цветанки, Вместе они принялись что-то стряпать, не глядя друг на друга и не поднимая голов. Вероятно, один вид наш внушал им ужас. Никакие наши попытки быть с ними как можно более приветливыми и ласковыми, успехом не увенчивались.
Не помню уже кто из офицеров, помещавшихся со мною в этом доме, подошел к старухе, обнял ее за плечо и сказал ей: "Майка, какво имашь?" (мать, что с тобой?) Старуха расплакалась. И вот что мы узнали: её сын – отец Цветанки – стоит в ряду предназначенных к расстрелу людей. Узнали мы, что местный учитель (Дончев) привез в их деревню "пушки" (ружья) и подбил людей – кого угрозами, кого взятками – к восстанию. "Мужик умен, да мир – дурак", говорит русская пословица. После долгих криков на сходке, постановили примкнуть к восставшим. И вот теперь за Дончева должно расплачиваться все село, а сам он убежал неизвестно куда. Мы уже знали судьбу Дончева, а рассказ старухи не оставлял во мне ни малейшего сомнения в её желании выгородить сына.
Но что мог я сделать? После недавнего столкновения с Моневым, мое заступничество привело бы к обратному результату. Но жаль мне было и старуху, и девчонку. Правда, я еще не совсем верил в приказание Монева о расстреле всех. Неожиданно появился наш болгарский комендант, в сопровождении десятка солдат. Явились они за взятым нами пулеметом и ящиками с пулеметными лентами. Помню что, опасаясь употребления этого пулемета для расстрела, я предупредил коменданта о том, что "красный" пулемет лишен охлаждения, а потому действовать не может.
С самого начала нашего знакомства, теперешний комендант возбудил во мне некоторое доверие, а потому я обратился к нему с просьбой сделать все возможное для облегчения участи приговоренных к расстрелу. Он взял меня под-руку и отвел в сторону. "Монев – злой человек", сказал он мне, "а жители этой деревни – все контрабандисты. Монев знает их всех". Если Кото (сын старухи) не является одним из "вождей" восстания, то комендант обещал мне сделать все от него зависящее.
Забрав пулемет и ленты, капитан и его команда удалились, но через полчаса ко мне явились два болгарских унтера из отряда Монева, передавшие мне его приказание перегрузить пулеметы на вьюки и, через час, быть готовыми к выступлению. Оба унтера должны были помогать мне при навьючивании. Слава Богу! Без них мы никогда не справились бы с этим замысловатым снаряжением, которое именуется вьюком. За все время процедуры навьючиванья, я сохранял вид наблюдающего за правильностью операции и не понимал в ней ни хрена. Поражала меня и ничтожная нагрузка лошади: тело пулемета и два ящика, хорошо уравновешенные; на следующей лошади следовали станок и еще два ящика и т.д. Но один из легких пулеметов грузить на лошадь я запретил, предпочитая иметь его под рукой. Минут за двадцать до данного мне срока все было готово, и я послал одного из болгарских унтеров доложить Моневу о полной готовности моей команды, а сам вернулся в хату.
За время перегрузки вбежал во двор болгарин с разбитой "добросовестно" физиономией. Он и был Кото – сын старухи. Мать и дочь положили его на циновку и покрыли мокрыми тряпками его "деформированное" лицо. В хату я вошел с единственной целью: заплатить, несмотря на запрещение, за наш постой. В Чипоровцах мы заплатили все (по 28 лева за человека и по 9 лева за лошадь). Суточные деньги я получил еще в Белградчике. В Чупрене же мне было запрещено платить жителям за постой.
Оставив старухе деньги, я вышел. Моя команда стояла в полном порядке, но отряд Монева еще не появлялся. Это обстоятельство позволило мне обольстить себя надеждой, основанной на прибытии Кото (Хоть и не без ущерба, но в целости), что и все остальные ограничатся жестоким "мордобоем", но не более. Увы! моя надежда не оправдалась: вскоре загремели ружейные выстрелы, продолжавшиеся с добрый пяток минут. Затем раздалось еще несколько отдельных выстрелов и все смолкло. Спустя еще несколько минут, появился и отряд Монева, шедший цепочкой (один за другим), обогнувший мою команду и продолжавший движение вперед. Во главе этого гуська, шел один из офицеров отряда, но самого Монева не было. Проходившие мимо нас болгарские солдаты шли молча, очевидно, сами терроризованные кошмарным актом расправы. За хвостом прошедшего отряда, двинулась и моя команда. Лежавшая перед нами дорога была достаточно широка для того, что б мы могли следовать по бокам наших вьючных лошадей. Не более чем через полчаса, нас обогнал Монев и поскакал в голову цепочки, не сказав мне ни слова.
Около часа шли мы по каменистой и довольно широкой грунтовой дороге, подведшей нас к подножию высокой, заросшей лесом, горы. Здесь дорога повернула влево и потянулась по подножью горы, а мы, оставив ее, начали взбираться по узкой, крутой и едва заметной тропинке. Пришлось и нам идти гуськом, так как ширина тропинки не допускала возможности идти- рядом с лошадью. Мы – Марковцы – народ втянутый и способный "на великие жертвы" но не к лазанью по горам! А самое обидное было то, что болгары шли как по ровному месту, наши лошади тоже, а мы "тилипались" сзади, проклиная весь мир, с момента его возникновения и до происшествия с нами: Болели все костные суставы, спина, все мускулы. А беспрерывное движение продолжается уже два с половиной часа и без малейшего перерыва! Когда же оно кончится? Надвигавшийся "удар грома" разразился: я приказал остановиться и сделать привал. Наши физические возможности были израсходованы. Минут через двадцать, подъехал ко мне, от головы колонны, адъютант Монева, горячо убеждавший меня продолжить наш путь еще 15 минут, после чего начнется спуск к "Влашско село", отстоящее от нас в четырех верстах. "Помянув родителей", отправились мы дальше и карабкались еще более получаса. Наконец дотащились до места, где нас ждал весь отряд. С занятого нами отрога горы, открывался вид на лежавшее под нами плоскогорье, с видневшимися на нем домиками. Село влахов – конечная цель нашего перехода.
Еще до наступления сумерек вошли мы в это село. Никаких диких сцен, свидетелями которых нам пришлось быть в Чупрене, здесь не произошло. Никакого исключительного приема оказано нам не было. Создавалось впечатление, что Влахи даже вовсе не интересуются нашим прибытием и продолжают свою обычную жизнь. Мужчины, в коротких белых юбочках, с белыми шерстяными чулками на ногах, в каких-то остроносых, высоко задранных, туфлях, сновали меж деревянных сараев. Женщины и подростки появлялись из домов с чем-то похожим на весла на плечах, перекрикивались и снова исчезали за дверью дома. Видимо, проводилась какая-то "коллективная" работа.
Недолго пришлось нам "толочься" на улице, в ожидании расквартирования. Почти сразу я получил три дома для моей команды. С момента выхода из Чупрене, Монев избегал встречи со мной и, за четырехчасовой переход, не обратился ко мне ни с единым словом, передавая свои приказания через адъютанта. Натянутость наших отношений не подвергалась сомнению, на что мне было "наплевать"!
Остановлюсь немного на занятии жителей Влашскаго Села.
Здесь фабриковался, весьма известный в Болгарии, сыр "Кашковал": нечто похожее на швейцарский сыр. В Софии этот сыр продавался по 100 лева за кило, тогда как обыкновенный овечий сыр (брынза) стоил не более 5-ти лева, а в провинции – полтора. Огромные колеса "кашковала", весом в 2 1/2 – 3 пуда, заполняли все многочисленные сараи села. Судя по бесконечному количеству черных буйволов и не меньшему числу овечьих стад, сыр этот делался из смеси овечьего и буйволиного молока. Однако, на этом моем умозаключении я не настаиваю, ибо как делается "кашковал" – я не знаю. Но то, что я видел собственными глазами, были высокие глиняные сосуды, наполненные до краев молоком. По своей величине и по своей форме, они были копиями тех сосудов, в которые богатая воображением Шехеразада запрятала разбойников Али-Бабы.
В отличие от болгарских домов в районе Белградчика, где в каждом доме отведена комната для шелковичных червей, в домах Влахов имелась пристройка, представлявшая собою отдельную комнату, сплошь заставленную "амфорами" с молоком. Кроме того, при каждом доме находился довольно большой сарай, куда складывались "колеса" кашкавала.
Не могу не остановиться и на описании поданного нам ужина, главным образом на его первой части. Эта первая часть состояла из "супа", называвшегося "подпара". Приготовлен он был на наших глазах, а потому я беру на себя смелость изложить его консистенцию. В полведра кипятку было вброшено несколько кусков сыра, несколько лепешек разрубленных топором – ни мамалыга, ни хлеб – какая-то очень душистая трава и три разбрызганных перышком яйца, сварившихся дробью. Только из вежливости, проглотили мы не более одной двадцатой этого шедевра кулинарного искусства. Утешил нас поданный затем жареный ягненок, заслуживший общее признание и одобрение.
Окончание нашего ужина совпало с уже сильно сгустившимися сумерками и вызовом меня к капитану Моневу. Монев принял меня так, как будто между нами ничего не произошло, и поставил в известность, что в пять часов утра отряд выступает. Нам предстоит взобраться на гору "Мартинова Чука" (Молоток Мартына), никаких жилых мест на нашей дороге не встретится, а потому мы должны взять с собой продовольствие и запас воды. При отряде пойдут две лошади везущие воду. В качестве продовольствия нам было предназначено три колеса кашковала, приведшие меня в ужас: 8 -9 пудов добавочного веса! И с этим лезть на гору? Я "благородно" отказался от двух и "скромно" ограничился одним. Опыт сегодняшнего дня настойчиво требовал от меня наибольшей легкости при одолении непривычной для нас местности. Кроме того, непривычное походное движение отряда (без коротких привалов после каждого часа движения) и явная невозможность для нас следовать за жителями гор, без физического ущерба для наших ног, спин и даже, неизвестно почему, шей, заставило меня обратиться к капитану Моневу с вопросом: "Сколько часов будет продолжаться наше восхождение?:
– С одними болгарами, – ответил мне Монев, – достаточно 8-ми часов, но с вами надо считать – десять. Обидно, но факт!
В 5 часов утра мы выступили. На Юго-восток от нас высилась "Мартинова чука". Это чудовище, по низу покрытое густым лесом, одевавшим его более чем на версту вверх, вдруг переполовинивалась пустым пространством, закрытым облаками, над которыми блистала шапка вечных снегов. Пустяки дело!
И вот начали мы ползти вверх, окруженные высоким буковым лесом. Ползли, ползли, ползли… стали! Пройденная одна десятая пути уже гарантировала нам всю нашу неприглядную будущность. Не знаю, правда ли наши лошади смотрели на нас с горьким упреком и презрением, или мне это только показалось, но точно помню, что Монев прислал ко мне своего адъютанта с ехидным вопросом: достаточно ли мы отдохнули?
– Достаточно! Крути Гаврила!
Пошли дальше. Удивительное дело: со второго часа, как будто прекратилась невыносимая боль в ногах. Они словно одеревенели и двигались сами по себе. Опять вползли куда-то и опять остановились.
На этом втором привале, я обратил внимание на большое количество "зимнорода", росшего вокруг нас. Это странное растение представляет собою два листа формы ландыша, растущие от одного корня, плотно охватывающие друг друга и образующие зеленый бутон, напоминающий бутон тюльпана. Когда зимнород созревает, то бутон раскрывается, а внутри оказывается невысокий стебелек, покрытый четырьмя поясками, состоящими из двух продолговатых и двух кругленьких шариков. Верхний поясок усажен продолговатыми зернышками, похожими на зерно пшеницы; следующий поясок имеет тоже продолговатый зерна, но с тонким волоском сверху; третий меняет свой цвет и форму и из кремового цвета двух первых поясков, становится лиловым; четвертый – почти белый – создан из круглых шариков, также как и третий. Это растение обладает пророческим свойством: верхний "этаж" представляет собою пшеницу, второй – овес, третий – виноград, четвертый – кукурузу. За четыре года моего пребывания в Болгарии, зимнород ни разу не оскандалился. Из году в год, один или другой из четырех поясков становится уже, уступая место другим. Болгарский земледелец уже с мая месяца определяет урожай, представленных зимнородом, злаков. Чем шире и наполненнее один из поясков зимнорода, тем больше, он гарантирует урожай либо пшеницы, либо овса, винограда или кукурузы. Растение это появляется в конце Мая и исчезает к концу Июля. Ежегодно ширина поясков меняется.
Но…зимнород – зимнородом, а ноги – ногами!
Надо ползти дальше. Около полудня добрались мы до заброшенной лесопилки, где остановились на большой привал. Если, до сих пор, лес по которому мы шли, был главным образом буковым, с редко встречавшимися дубами, вязами, грабами и прочими деревьями, то отсюда он все более и более становился сосновым, пока не стал им окончательно. По мере подъема уменьшалось и "народонаселение" леса. На первых пяти-шести переходах можно было видеть и диких коз, и каких-то длинноногих "животинок" напоминающих серну, много ястребов и коршунов. Из-за камней выглядывали любопытствующие ящерицы, запоздавшие отдалиться саламандры, в большом количестве гадюки с мягким рогом на носу пятиугольной головы (говорят, очень ядовитые). А щебетанье птиц наполняло весь лес.
Но в сосновом бору нам не пришлось встретить ни одного обитателя: или они разбегались перед головой нашего отряда, или их вообще не было. Исчезли и птицы. Так, поднимаясь все выше и выше, достигли мы широкого плоскогорья. Лес кончился. Поблизости, по левой руке, тянулась полоса леса, отчеркивающая легкий косогор, по которому шла наша дорога; направо – открытое пространство, с версту длиной, переходящее в высокие скалы, за которыми виднелась снежная шапка горы; впереди – бегущая вдоль по косогору ровная тропинка, уходящая куда-то в даль.
При выходе на плоскогорье был сделан последний привал.
Впервые за весь день ко мне подошел Монев, объяснивший мне цель нашего путешествия по горе. Восставшие, ограбив Государственный Банк в городе Фердинанде, собираются унести свою добычу в Сербию и пойдут по той дороге, которую мы через час оседлаем. Показал он мне, впервые также за время наших совместных действий, карту и зарисовки нашей будущей засады,
– Подробности мы обсудим на месте, после того как вы выберете позицию для пулеметов, – сказал он, – а теперь двинемся вперед – "оште малко".
"Оште малко" действительно оказалось коротко и все движенье по плоскогорью продолжалось не более часа. За все время этого последнего перехода, Монев оставался с нами и шел рядом со мною. О происшествиях вчерашнего дня между нами не было сказано ни слова. Мы оба старательно избегали касаться тем, относящихся к недавнему, но уже прошлому. Помню, что, по словам Монева, с отходящим отрядом "красных", должны были следовать Димитров и Коларов (будущий председатель Коминтерна), везущие с собой золото, украденное из Госбанка. Предпринятая нами дорога – единственно возможная – имела целью опередить отходящую коммунистическую банду и "захлопать" ее в таком месте, где никакое спасение, даже отдельных людей, было бы невозможно. Наше восхождение по "Мартыновой Чуке" дало нам возможность обогнать "товарищей" часов на пять, так что у нас имеется большой срок для выбора позиции. Во время моего разговора с Моневым было уже 5 часов вечера. Следовательно, наша встреча могла произойти не раньше 10 – 11ти часов ночи, то есть в полной темноте, Хм?
По дороге я обратил внимание на разделенные длинные пространства земли, по правую руку нашего движения. Но кто же работает на такой высоте? Какой злак может расти здесь? На мой недоуменный вопрос, Монев ответил: "кабаны".
– Да вон они! – передал он мне свой бинокль.
Действительно, в шестистах шагах от нас, я увидел то, чего до сих пор мне никогда еще не приходилось видеть: это было стадо в несколько сот штук диких кабанов, пасшихся совершенно спокойно и не обращавших на нас никакого внимания. В Галлиполи мне приходилось видеть 20 – 30 штук, пасшихся вместе, но здесь их было так много, что просто казалось невероятным. Я не видел ни одной головы, а только одни спины, так что вся эта орда напоминала движение форели, в период метания икры.
– Жаль, что нельзя подстрелить одного! – сказал я Моневу.
– Да Вы взбесились, – воскликнул он – При первой опасности, вся эта лавина бросится на нас и ни один из нас не уйдет живым – всё будет снесено на их пути. Здесь никакая охота на них невозможна. Поздней осенью они спускаются в леса, где расходятся на большие расстояния группами в 10 – 12 штук, в поисках пищи, а весной, с появлением первой зелени, снова возвращаются сюда всем стадом. Если их не трогать, то они не представляют собой никакой опасности, но Боже сохрани обеспокоить их – это гарантированная смерть.
Но вот мы оказались на месте, и я убедился, что Монев знает всю эту местность как свои пять пальцев. Плоскогорье кончилось. Мы остановились над отвесным скалистым обрывом, под которым проходила дорога, а по ту сторону её снова поднималась отвесная скала. Ширина дороги не превышала 4-х саженей, а стиснувшие её скалы доходили до 7 -8-ми саженей. В общем, Фермопильское ущелье. Лучшей позиции для засады и придумать было бы невозможно.
До самого наступления сумерек, весь отряд занялся баррикадированьем выхода из этого "коридора", усыпав его конечный пункт прикатанными туда большими камнями, исключавшими всякую возможность движения подвод по дороге. Оба моих тяжелых пулемета, по требованию капитана Монева, были расположены в 70-ти шагах впереди, а два легких – с обеих вершин скал, стискивавших дорогу.
Сильно смущало меня то обстоятельство, что между моими пулеметами и точкой их прицела должна была находиться небольшая часть отряда Монева (5 солдат и офицер болгарин). Их задача заключалась в преграждении дороги для неизбежного конского дозора и обращении его в бегство. Путь отступления этому дозору должен был быть отрезан капитаном Моневым. Вся операция должна была пройти без единого выстрела, дабы не потревожить главные силы противника и дать ему возможность втянуться в ущелье, где уже никакое спасение не было бы возможно. Но действовать предстояло в полной темноте. Когда открыть огонь? Как узнать, как развивается операция?
На эти мои недоуменные вопросы Монев ответил: "ште виждите" (увидите). А что я мог увидеть ночью? Передо мной черная дыра выходящей из скал дороги, а кто находиться в этой дыре – свои или чужие – определить невозможно.
– Я предупрежу вас, – сказал Монев,- когда вы должны начать стрелять, а ответственность беру на себя. И он покинул нас, нырнув в глубину леса.
И вот, в полной тишине наступившей ночи, погрузились мы в томительное ожидание. Молчат находящиеся над нами вершины снеговых гор. Молчит находящийся внизу лес. Полная тишина. Бесконечно долго тянется время. Который час – никому неизвестно: часов ни у кого нет. Жуем кашковал и запиваем "ракией". Ни звука, ни шороха! Ждем.
Показалось мне, что долетел до моего слуха не то человеческий голос, не то крик филина и опять все смолкло. Спустя продолжительное время, снова послышался тот же звук, но уже гораздо явственнее, а к нему присоединился другой, похожий на визг. Мы насторожились. Или филин задрал зайца, или Монев перехватил и зажал в ущелье отступающий коммунистический отряд. Что из двух?
Наше сомнение вскоре было рассеяно присланным ко мне от капитана Монева унтер-офицером, сообщившим мне, что я могу снять мои пулеметы и дать людям отдых, так как завтра с рассветом мы идем дальше. "Всички вземали" (всех взяли), торжественно добавил болгарин.
Вот те бой! А мы тут причем? Конечно, очень обидно не выпустить ни одной пули и выиграть сражение чужими руками. Гордиться тут не приходиться и так мы не гордимся: все было сделано без нас, а наше участие выразилось в поглощении кашковала и в томительном ночном ожидании. Все что произошло – нам неизвестно.
Проведенный нами остаток ночи никак нельзя было назвать спокойным, так как температура горных высот и непосредственная близость снега неприятно действовали на весь организм и, особенно на зубы, не прекращавшие лязгать. Кроме того, еще до рассвета мы были разбужены внезапно открывшейся ружейной стрельбой, происхождение которой оставалось для нас непонятно. Пришлось принять все меры предосторожности и покорно дожидаться событий. Впрочем, огонь скоро прекратился, а затем, с первым проблеском зарождающегося дня, ко мне был прислан болгарский унтер-офицер, передавший мне приказание грузить пулеметы на вьюки. От него же я узнал, что все, захваченные ночью, коммунисты были расстреляны под утро.
Повел нас унтер на соединение с отрядом, к которому мы присоединились на горной дороге, где нас уже ждала колонна. В хвосте её я заметил четыре или пять подвод, вероятно принадлежавших захваченным нами коммунистам и, также вероятно, груженых золотом. Странным было только то, что подводы эти не охранялись нашим воинством, а скромно довольствовались одним своим возницей. Уже только почти в самом низу я узнал, что Димитров и Коларов успели уйти в Сербию за сутки до нашего появления на "Мартыновой Чуке", а перехваченный нами отряд (до ста человек) являлся только арьергардом. Золото же исчезло вместе с двумя вождями "пролетариев всех стран".
Дорога, по которой мы теперь спускались с горы, была усыпана мелкими камнями естественного происхождения, а не насыпанными дорожным ведомством, сбегала очень круто, шла лесом и привела, нас, часам к трем дня, к небольшому монастырю Св. Ивана Рыльского.
Это не был знаменитый "Рыльский" монастырь, а совсем маленький, воздвигнутый в честь того же Святого. Во времена турецкого владычества здесь разыгралась чудовищная драма: несколько тысяч болгар были окружены турками и изрублены ими. Трупы, подвергшихся бойне, мужчин, женщин и детей были лишены погребения и лежали кучами более 20-ти лет, уничтожаемые гиенами, шакалами и воронами. По освобождении Болгарии, высохшие и оголенные кости и черепа были собраны в большие и глубокие дубовые лари, которые, наполненные до краев своим жутким содержимым, ныне стояли вдоль внутренних стен большой монастырской церкви.
Запомнилась мне и чудотворная икона Божьей Матери. По преданию, один из янычар рассек ятаганом лик Богородицы. Из рассеченного лика потекла кровь. Икона эта поставлена на невысокий помост, весь увешанный нательными крестиками, ожерельями из золотых монет, всевозможными безделушками, чашами и пр. Окрестное население, во всех безвыходных положениях своей жизни, тяжелых болезнях, горестях или иных страданий несет этой иконе свое покаяние и возлагает на нее все свои надежды. Приходящий кается, объявляя свои грехи вслух перед всеми прихожанами, целует землю под иконой и прикладывается к лику.